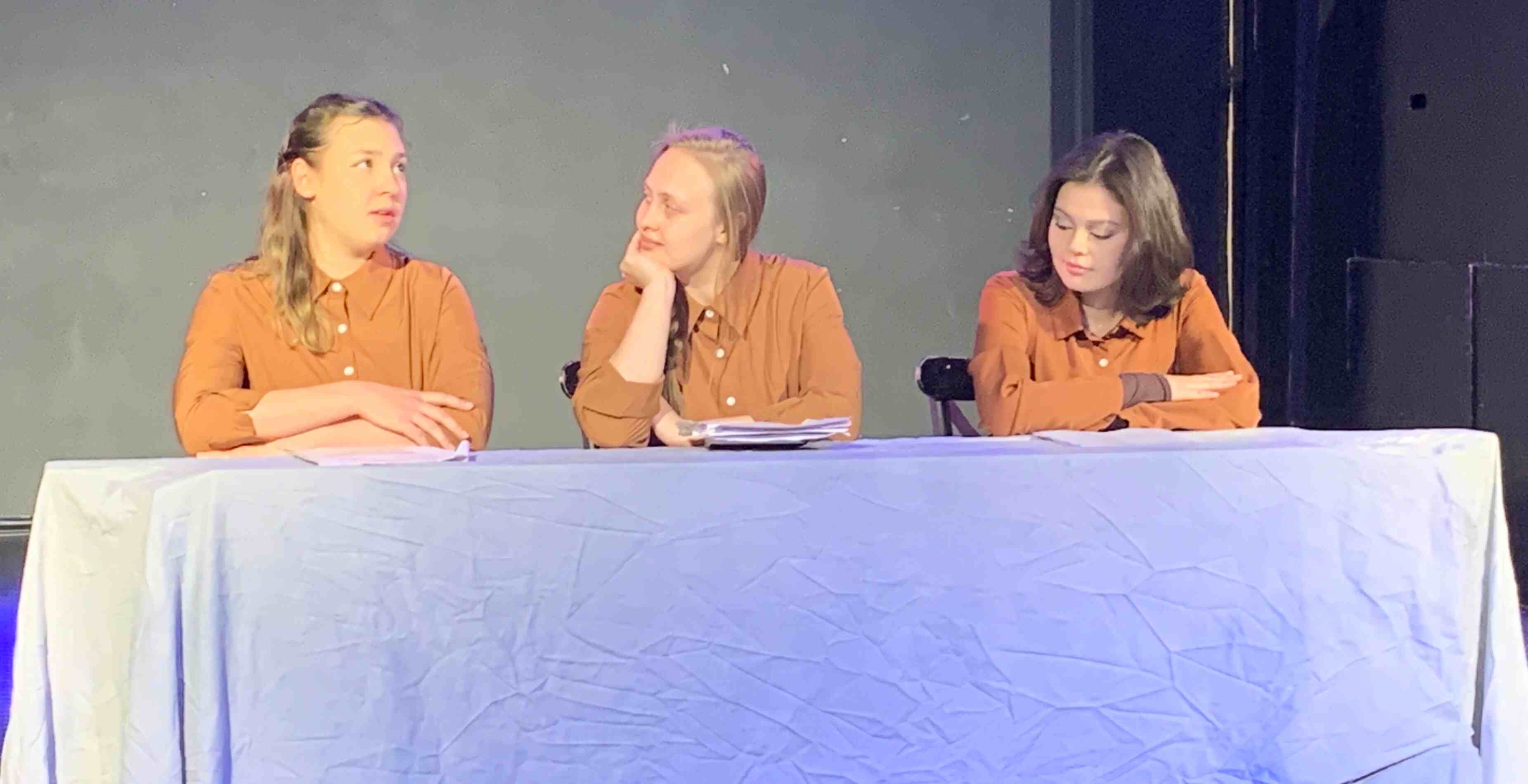Середина 2020-х — время знаковых юбилеев для очень многих алматинских культурных заведений. Год назад широко отмечалось 90-летие ГАТОБа, в будущем году отметят вековой юбилей Казахского драмтеатра имени Ауэзова. Ну, а в этом году 90 лет исполняется Казахской государственной филармонии имени Жамбыла, которая сделала серьезный вклад как в классическую, так и в эстрадную музыку. А сама филармония (как здание, так и организация) тоже переживала разные страницы.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Кинотеатр, заслонивший храм. Третья жизнь «Целинного»
Где-то посредине лета. Почему закрылся «Азия Дауысы»
Собственно, абсолютно неслучайно, что именно на наши дни выпали такие юбилеи. Отправимся на 90–100 лет назад, чтобы понять всю суть происходивших тогда в казахской культуре событий и процессов.
Период 1920-1930-х — время масштабной культурной революции в Казахстане. Сегодня на нее часто смотрят сквозь призму нынешних политических взглядов, а между тем эти события еще в полной мере не осознаны и не поняты потомками, которые благодаря глобализации и европоцентричности думают, что так было всегда.
Казахская культура переживала период масштабного реформирования и переформатирования из народного стихийного феномена в мировые институты и форматы. Тогда, в 1920-е, многие верили, что не за горами мировая революция и скоро мир заживет «единым человеческим общежитием», поэтому культурная глобализация была вполне объяснимым явлением. Хотя тогда у нее были свои вызовы и задачи.
В начале 1930-х годов, по инициативе наркома просвещения СССР Анатолия Луначарского, в Алма-Ате было решено возвести большое здание Дома культуры. Изначально проект представлял собой типичный образец конструктивизма — прямые линии, функциональные формы, никакой декоративности. Но вскоре архитектура обрела торжественный вид: появились колоннада и парадный портал. Так в молодой столице Казахстана был создан первый настоящий концертный зал — будущая филармония. До этого полноценной сцены для симфонических выступлений в городе попросту не существовало.
Именно здесь собрались под одной крышей музыканты самых разных направлений — академисты и носители народных традиций. Впервые рядом оказались исполнители казахских песен и кюев и выпускники европейских консерваторий. До 1930-х такие миры почти не соприкасались, хотя академическая школа в Казахстане существовала еще со времен итальянца Луки Ланжели, открывшего в Верном в конце XIX века музыкальные классы. Тогда же, к примеру, хормейстер Соловьев устраивал грандиозные городские выступления, вовлекая сотни жителей. А параллельно расцветали айтысы — форма народного состязательного искусства, переживавшая подлинный подъем.
Живыми символами казахской музыкальной традиции в те годы были Дина Нурпеисова и Жамбыл Жабаев. Они прошли путь от свободных странствующих акынов до признанных артистов, выступающих на академической сцене. Их появление в залах филармонии не только придало казахской музыке новую статусность, но и воспитало у публики вкус к концертной культуре.
Впрочем, создать эту новую концертную культуру тоже еще только предстояло. Традиционная публика, ходящая на концерты казахской народной музыки, привыкла к их ярмарочному формату, когда акын или кюйши выступали под открытым небом. А вот собиравшаяся на музыкальные вечера в небольших камерных залах и салонах тоже едва ли себе представляла, как казахская народная музыка может звучать в больших концертных залах. Для европейского городского населения в Казахстане казахская народная музыка была довольно далеким явлением. Требовалось еще привить эту любовь не привыкшей к такому искусству аудитории. Любопытно, но первым, кто додумался перекладывать на казахские народные инструменты популярные европейские и русские классические мелодии, был Ахмет Жубанов — один из первореформаторов казахской музыки. Сегодня в интернете часто вирусятся видео, как домбристы исполняют на казахском инструменте популярные хиты или шлягеры минувших лет. Надо сказать, что одним из первопроходцев такого ноу-хау и был Жубанов: таким образом он «поженил» аудиторию европейского классической музыки и казахской народной.
Мы уже писали о противостоянии и непростых отношениях двух классиков и реформаторов казахского музыкального искусства: Ахмета Жубанова и Евгения Брусиловского. И о сериале «Вальс на ветру», описывающем их непростые отношения.
Тогда, в 1930-х, филармония стала настоящей творческой лабораторией, где мастера творили по своим собственным авторским методикам.
Брусиловский, например, не просто переписывал мелодию домбры для струнного квартета или симфонического оркестра — он пытался сохранить интонацию, ритм, фразировку народного источника и при этом встроить в формальные структуры: тематическое развитие, оркестровая фактура, гармония. Народный мотив в медляке домбры мог иметь свободное ритмическое течение, «плавающую» фразу, негромкий акцент — но в симфонии нужен четкий метр и темп. Брусиловский сталкивался с задачей: либо сохранить чувство «волны» народного исполнения, либо зафиксировать его и подчинить «академическому» ритму.
Жубанов же при оркестровке кюя для оркестра народных инструментов или симфонического сохранял специфический оттенок: темп, характер, тембр. Например, он останавливался на том, что «у каждого был свой темп» и надо было привести к единому темпу для оркестра. Он занимался методикой передачи устной традиции в нотной, академической форме: перекладывание фразировки, артикуляции, орнаментных деталей. Часто народный исполнитель делал импровизацию, варьировал мелодию — в академическом обработанном варианте это фиксировалось, но пытались передать «дыхание» этих вариаций.
Как музыковед, он формулировал принципы того, что «национальное звучание» не сводится к «народной мелодии плюс оркестр», но требует интеграции: образа, характера, зоркости, фактуры.
В научно-исследовательском кабинете при музыкально-драматическом техникуме Брусиловский записал более 250 песен и кюев, тем самым заложив фундамент новой профессиональной школы. То, на что Европе потребовались столетия, в Казахстане произошло за считаные годы. Вместе с ним национальную симфоническую культуру создавали Мукан Тулебаев, Латиф Хамиди и Ахмет Жубанов. Последний сумел перенести кюйи из аулов на академическую сцену, а такие исполнители, как Жамбыл и Дина, начали гастролировать по всему Союзу, представляя казахское искусство.
Новый импульс взаимному культурному обмену принесла война. В Алма-Ату были эвакуированы крупнейшие деятели искусства, включая Сергея Прокофьева, который здесь впервые представил публике фрагменты своей оперы «Война и мир». В те же годы здание филармонии стало домом для Центральной объединенной киностудии (ЦОКС). Именно здесь снимались «Парень из нашего города», «Жди меня» и, конечно, «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. Ночами концертный зал превращался в кремлевские палаты и Успенский собор: художники и операторы создавали иллюзию храмового пространства с помощью света и натянутых белых нитей.
Военное время дало миру и другое имя — Розу Багланову. Ее исполнение «Самары-городка» покорило фронтовую публику, а легендарная Лидия Русланова, услышав молодую певицу, буквально «подарила» ей песню, которую изначально пела сама. С тех пор «Самара-городок» прочно ассоциируется с Розой Тажибаевной. Сегодня возле филармонии ей установлен памятник — знак памяти о легенде, чье имя неразрывно связано с этим зданием.
Пятидесятые и шестидесятые стали «золотым временем» филармонии. Государственный симфонический оркестр под управлением Фуата Мансурова выступал с крупнейшими музыкантами планеты — Мстиславом Ростроповичем, Святославом Рихтером, Тихоном Хренниковым, Ириной Архиповой, Гидоном Кремером и другими. Филармония превратилась в одну из лучших концертных площадок Союза. В эти годы закладывались и традиции казахстанского дирижерского искусства — имена Толепбергена Абдрашева, Рената Салаватова, Ильи Островского до сих пор звучат с уважением.
Немалый вклад филармония внесла и в формирование национальной эстрады Казахстана. В шестидесятые и семидесятые годы в Казахстане начала складываться та самая эстрада, которую сегодня принято считать «золотым веком» отечественной популярной музыки. Этот процесс не был стихийным: за каждым артистом, ансамблем или певцом стояла определенная система — организованная, структурированная и во многом выстроенная вокруг филармонии имени Жамбыла.
Филармония в ту эпоху играла роль своеобразного «министерства музыки» — центра, где формировались концертные бригады, утверждались программы, распределялись гастрольные маршруты. Каждый профессиональный артист должен был быть приписан к филармонии, которая обеспечивала ему репертуар, концертные костюмы, аккомпанирующих музыкантов, техническое сопровождение и, главное, официальный статус. Без филармонического штампа ты не мог считаться полноценным артистом — это было не просто учреждение, а институт государственной легитимации таланта.
Именно в стенах филармонии, где еще недавно звучали симфонии Брусиловского и народные кюи Дины Нурпеисовой, начинали свой путь исполнители, определившие лицо казахстанской эстрады — от Кайрата Байбосынова и Бибигуль Тулегеновой до вокально-инструментальных ансамблей «Дос-Мукасан» и «Гульдер». Здесь репетировали, спорили о стиле, искали новые тембры и гармонии.
Сама структура концертного дела в Советском Союзе предполагала, что филармония — это не только сцена, но и продюсерский центр в современном смысле. Именно она контролировала гастрольные графики, занималась идеологическим надзором за содержанием номеров и даже утверждала внешний облик артистов. Отдел художественных программ решал, что соответствует «духу времени», а что требует правки. Но при этом филармония оставалась мощным трамплином: через нее можно было попасть в союзные гастрольные списки, а оттуда — на всесоюзное радио и телевидение.
В те годы казахстанская эстрада только искала свой голос, и филармония стала местом, где этот голос впервые зазвучал. Тут рождалась культура сценического исполнения на казахском языке, синтезировались традиционные мелодии с джазовыми и эстрадными ритмами, появлялись первые оркестровые аранжировки народных песен. Во многом именно благодаря филармонической школе исполнители казахстанской эстрады обрели профессиональный масштаб и уверенно вошли в культурное пространство всего Союза.
Таким образом, через фестивали и конкурсы на всесоюзном эстрадном небосклоне зажглись имена Розы Рымбаевой, Нагимы Ескалиевой, Алибека Днишева, Батырхана Шукенова и Байгали Серкебаева, которые состоятся на рубеже 1980-1990-х, уже в новых условиях.
Когда же пришло время независимости и рыночной экономики, филармония перестала определять то, какой быть отечественной эстраде. Пережив турбулентность и нестабильность 1990-х, сегодня, уже в XXI веке, филармония имени Жамбыла продолжает оставаться живым организмом — не просто «музеем музыки», а действующей культурной площадкой, где по-прежнему рождаются новые имена, стили и проекты. Меняются поколения, формы, технологии, но сама миссия остается прежней — быть пространством, где национальная музыка встречается с мировой, а традиция обретает современное дыхание.
То, что начиналось как скромный Дом культуры по инициативе Луначарского, пережило симфоническую классику, расцвет народного искусства, становление казахстанской эстрады и десятки музыкальных реформ. Сегодня филармония вновь стоит на пороге нового этапа — цифрового, мультимедийного, открытого миру.
Какой именно страницей, темной или светлой, войдет нынешняя эпоха в ее биографию — покажет время. Возможно, будущие исследователи назовут наши дни периодом обновления, перехода к новой модели культурной жизни, где академическая сцена снова станет точкой притяжения для всех — от исполнителей народных песен до электронных экспериментаторов. Но одно ясно уже сейчас: история филармонии имени Жамбыла продолжается.
Фото из открытых источников