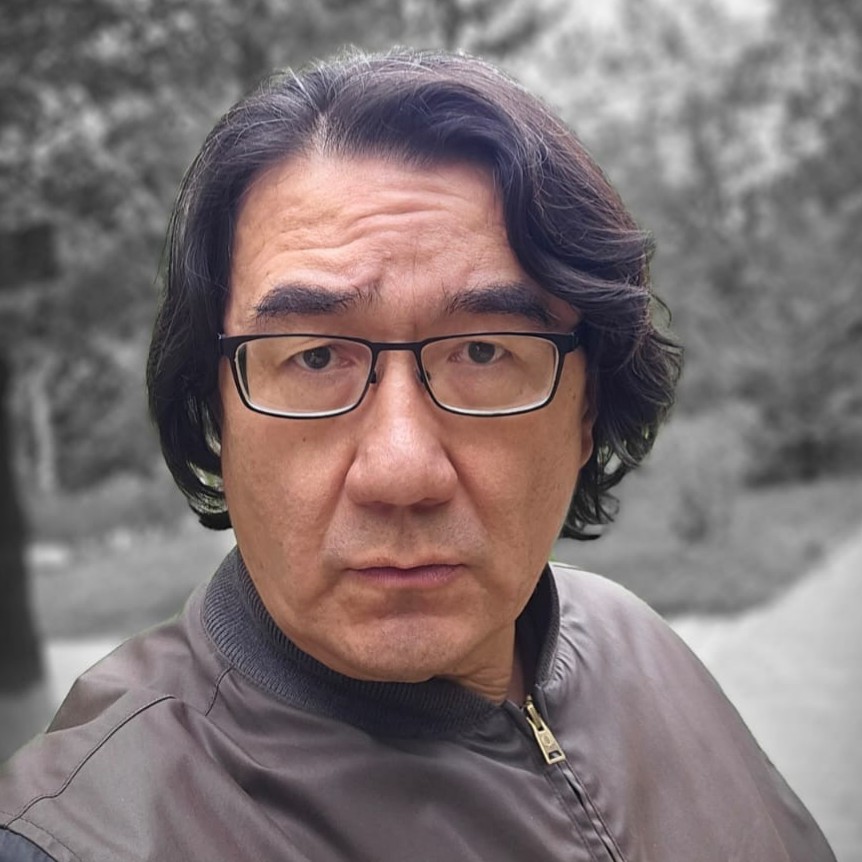Вопрос субъектности в международных отношениях и внутренней политике приобретает особое значение для постсоветских государств. Казахстан, как государство с богатым историческим наследием и сложным опытом интеграции в евразийские и глобальные системы, сегодня сталкивается с необходимостью переосмыслить свое место в мире. Это — не идеологическая формальность, а инструмент стратегического выживания, особенно для наций, переживших опыт вассалитета или внешнего доминирования.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
«Пирамиды Боглаева» и Казахстан
Сильное государство не боится внутреннего диалога
Манифест Токаева. Вызов логике «вечного правления»
Субъектность — это право и способность действовать от собственного имени, исходя из собственных интересов и ценностей. В классическом политико-философском смысле субъектность — это наличие воли, права голоса и силы осуществить эту волю. Для нации это означает:
- признание своей исторической идентичности;
- наличие стратегии будущего;
- институциональные механизмы самореализации в геополитике, экономике, культуре.
Отсутствие субъектности — это не просто политическая слабость. Это состояние, при котором решения принимаются извне, а народ свыкается с ролью объекта чужих интересов.
Вопрос о том, как казахский народ вошел в состав Российской империи, далеко не второстепенный. Он затрагивает фундаментальные аспекты национальной идентичности, политической субъектности и исторической памяти. Распространенный стереотип гласит, что казахи были частью «мозаики покорённых племен», как сибирские народы, финно-угры, черемисы или кавказские этносы. Однако в реальности казахи были не объектом, а субъектом — с политической волей, институтами, правовой культурой и внешней политикой.
К моменту начала контактов с Россией в XVI–XVIII веках казахи представляли собой не аморфную этническую массу, а организованное государство с ханской властью, уходящей к Джучи — сыну Чингисхана. Династическая легитимность — это ключ: казахские ханы происходили из одного династического ствола и признавались внутри степного мира как носители чингизидской харизмы.
Наряду с этим существовали институты народного управления — бии, аксакалы, курултаи. Адат (обычное право) и элементы шариата регулировали социальные отношения. Это был субъект права, субъект дипломатии и субъект геополитического выбора.
В отличие от народов Поволжья, Сибири и Кавказа, интеграция казахов происходила с сохранением правосубъектности на первом этапе. Если мари или удмурты были напрямую аннексированы, а их правовые формы разрушены, казахи сохраняли ханство, суд, дипломатические функции. Это не отменяет факта колонизации в дальнейшем, но указывает на принципиально другой стартовый пункт.
Однако XX век принес драматический разрыв с этим наследием. Советская индустриализация, репрессии, голод 1920-30-х, оседлость и депортации обернулись утратой субъектного самовосприятия. Казахстанцы стали воспринимать себя не как участники истории, а как ее статисты.
С обретением независимости в 1991 году Казахстан получил уникальный шанс восстановить субъектность. Однако вместо стратегического самоопределения была выбрана тактика «многовекторности» — формально разумная, но на практике часто маскирующая отсутствие вектора как такового.
В чем проблема?
Когда ты входишь в союз (экономический, политический, военный) без ясного национального интереса и без уверенного представления о своей роли, ты становишься не союзником, а «младшим партнером», а на деле — вассалом. Уважение в международной политике не дается за прошлое или территорию. Оно приходит только к тем, кто предъявил себя как субъект.
Субъектность — это не агрессия, а взросление.
Речь не о конфронтации. Национальная субъектность — это не популизм, не антизападная или антироссийская риторика. Это взрослое поведение:
- защита своего языка — без истерик, но без уступок;
- экономическая стратегия, ориентированная на рост и самодостаточность, а не на экспорт сырья и импорт идентичности;
- культурная политика, возвращающая людям достоинство и историческую память.
В международной политике тебя уважают ровно настолько, насколько ты сам предъявил себя как полноценный участник. Это чистая психология. Ни одна держава не будет относиться к тебе серьезно, если ты приходишь на переговоры без мандата от собственной нации, без ясной концепции, без правды о себе.
История показывает: если ты входишь в союз как вассал — ты из него и выйдешь в том же качестве.
Если ты хочешь быть равным — ты должен утвердить свое право говорить от своего имени.
Для Казахстана сегодня настал момент истины. Либо мы переходим к субъектному этапу — с сильной элитой, честным самосознанием и долгосрочной национальной стратегией. Либо продолжаем существовать в инерции постсоветской зависимости, которая в XXI веке будет становиться все более уязвимой.
Современная казахская государственность наследует не только советский административный аппарат, но и тысячелетнюю традицию степной политической субъектности. Признание этого факта — основа для построения полноценной национальной идентичности и внешней политики. В эпоху деколониального мышления важно напоминать: казахи были не «племенем при империи», а народом с исторической волей, который заключал союзы, защищал границы и принимал самостоятельные решения.
Возвращение этой памяти — не жест против кого-то, а шаг к себе. Это не ностальгия, а реставрация внутреннего права на субъектность.
Субъектность — не привилегия, а обязанность.
Без нее не будет ни уважения, ни равенства, ни будущего.
Фото из открытых источников