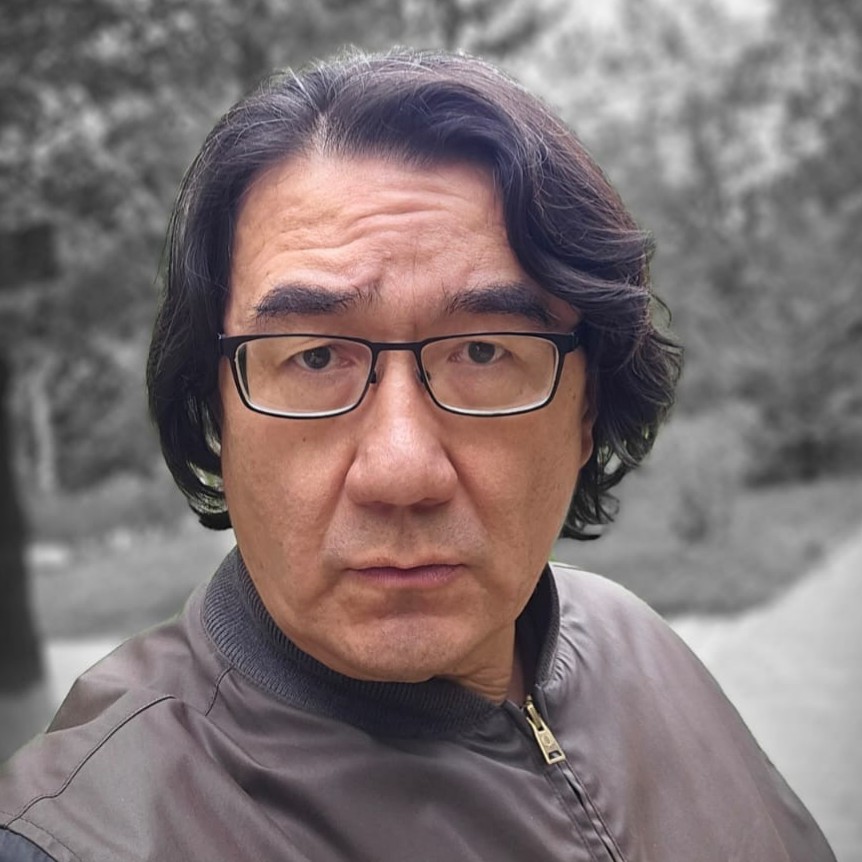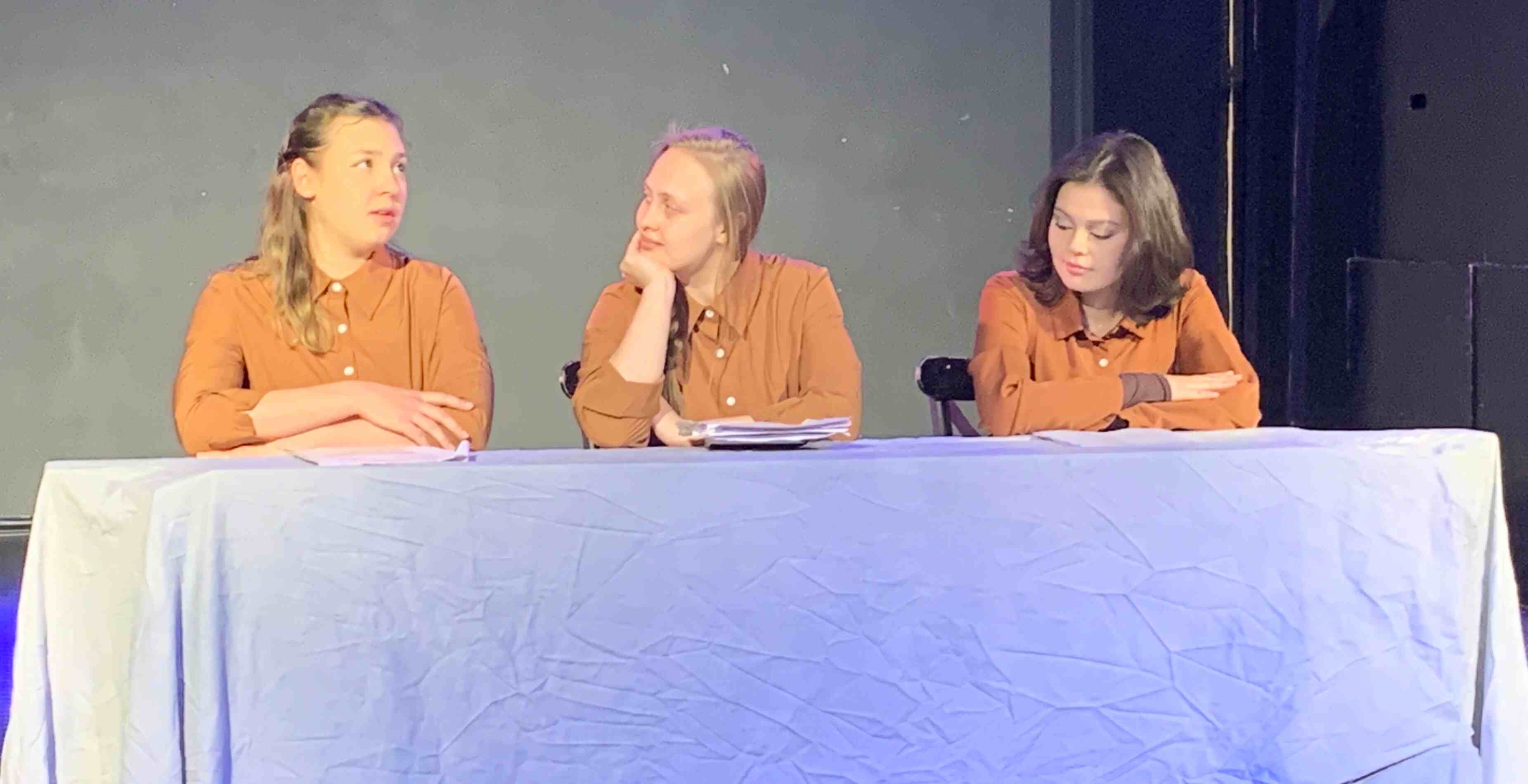В постсоветском Казахстане часто звучит знакомая формула: «мы любим страну, но не любим государство». За этой, на первый взгляд, безобидной позицией скрывается глубокое интеллектуальное противоречие. Она апеллирует к нравственному чувству — к разочарованию, к усталости от чиновничьего лицемерия, от казенного патриотизма. Но в своей сути этот тезис разрушителен, потому что лишает общество его главного скрепляющего механизма — институциональной целостности.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Европа как символ утраченного порядка
Субъектность как условие равного диалога: казахский взгляд
Казахский патриотизм для русскоязычных
Любовь к народу без готовности защищать государство — это эмоциональная реакция, но не политическое сознание. Исторически народы исчезали не потому, что у них были плохие правители, а потому что они переставали поддерживать собственные институты. Государство — это не сумма чиновников, а форма коллективного выживания. Без него нет народа, есть лишь население, обреченное на внешнее управление.
Биология власти
Социальная иерархия — не изобретение восточных деспотий, а универсальный биологический механизм. Как писал Томас Гоббс, человек живет в «естественном состоянии войны всех против всех» и потому создает Левиафана — государство, которое берет на себя монополию на насилие. Казахстан, как и другие молодые нации, не избежал этой логики: всякий раз, когда ослабевал центр — в 1990-е или в январе 2022 года, общество мгновенно возвращалось к первичной биологии страха и силы.
Именно поэтому тезис «я не хочу защищать власть, потому что она коррумпирована» может быть этически понятен, но исторически опасен. Коррупция — не аномалия, а хронический симптом любой сложной иерархии. Важно не отрицать государство как форму, а добиваться его очищения, иначе разрушение верхушки ведет не к свободе, а к распаду.
Казахстанский парадокс
Парадокс современного Казахстана заключается в том, что критика государства идет не от низов, а от его же элит. На уровне дискурса именно средний и высший класс культивирует образ «хорошего народа и плохого государства», формируя тем самым моральное алиби для собственного ухода в тень — в офшоры, иностранные паспорта и патерналистские рассуждения о «несозревшем обществе».
Эта позиция не разрушает бюрократию — она подменяет гражданственность цинизмом. Государство в такой системе не реформируется, а растворяется. Мы получаем не власть народа, а власть капитала без ответственности, где «невидимые деньги» подменяют реальные институты.
Как писал Макс Вебер, «власть есть отношение господства, опирающееся на средства легитимного насилия».
В казахстанских условиях эту монополию постепенно подтачивают не революционеры, а экономические олигархии, обладающие собственными системами лояльности, охраны, пропаганды. Именно здесь возникает аналогия с феноменом Мейера Лански: капитал, выведенный за пределы публичной ответственности, становится новой формой надгосударственной власти.
В политическом смысле отрицание государства — это отказ от субъектности. Когда гражданин перестает воспринимать государство как свое, он автоматически превращает себя в объект внешнего управления — будь то иностранные корпорации, НПО или «старшие партнеры». Поэтому в казахстанском контексте лозунг «я за народ, но не за власть» всегда выгоден кому-то извне.
Проблема не в том, что элиты коррумпированы, а в том, что общество перестает считать себя соавтором государства. В результате патриотизм превращается в эстетическую позу, а не в политическое действие. Настоящий патриотизм — это не протест против государства, а участие в его управлении, даже если система несовершенна. В этом и заключается зрелость нации.
История Казахстана, как и история всех постколониальных обществ — это поиск равновесия между властью и моралью. Но следует признать: чистой власти не бывает, как не бывает идеальной природы. Отказываясь от государства под предлогом его несовершенства, мы теряем право на собственную историю. Как бы ни хотелось видеть в элите «высоких эльфов», реальность всегда прозаична — но именно она удерживает страну от хаоса.
Патриотизм без институциональной ответственности — это форма политического инфантилизма. Любить родину — значит любить ее государство во всех его несовершенствах, потому что без него не существует ни языка, ни земли, ни памяти. Государство — не враг, а единственный инструмент выживания народа в мире, где побеждают не добродетельные, а организованные.
Фото Elorda.info