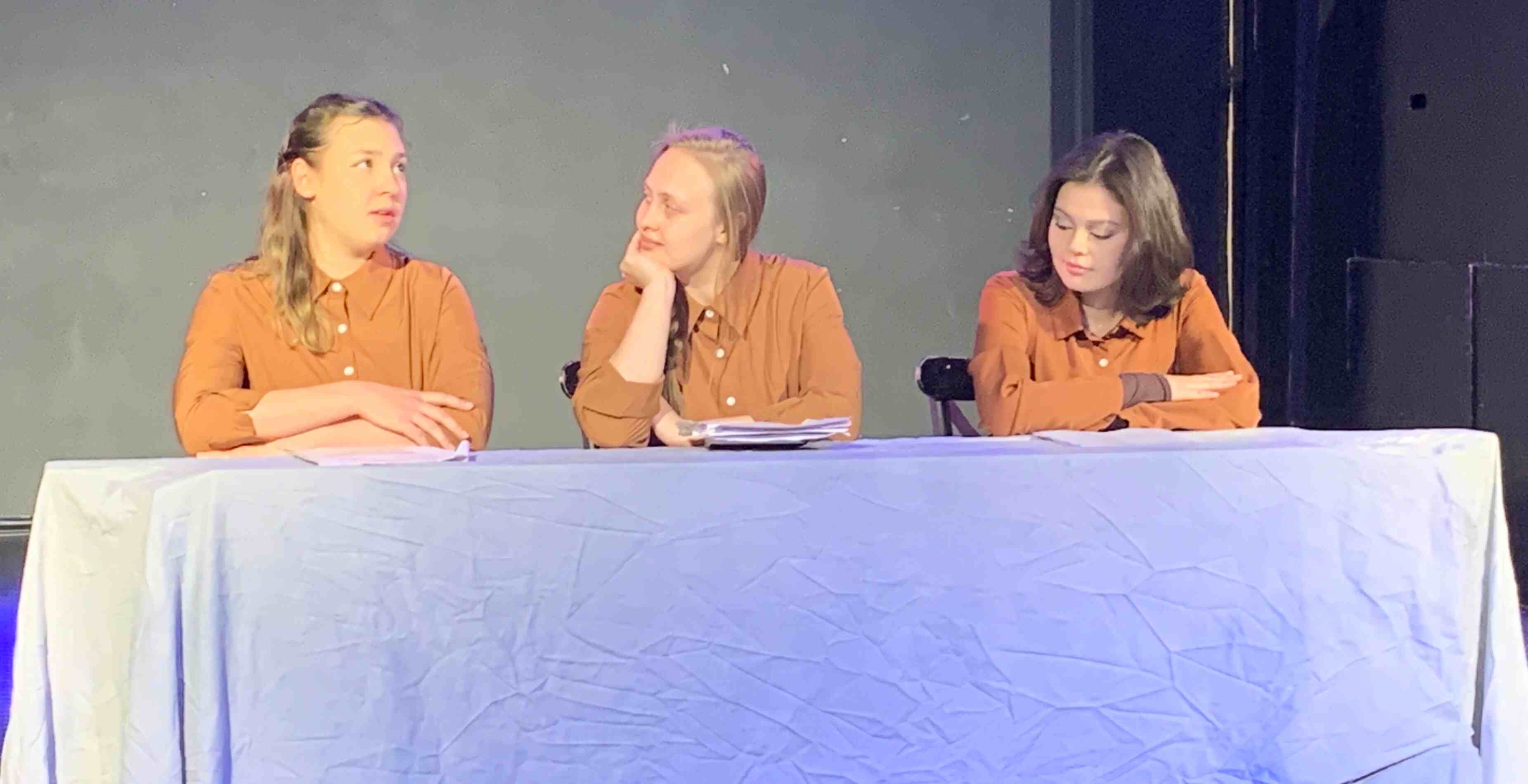До принятия судебного решения по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата еще далеко, однако, похоже, общество уже вынесло свой вердикт и приговор — многие в соцсетях требуют пожизненного заключения. Но замечено, что интерес к «Делу Шерзата» постепенно снижается — особенно среди русскоязычной аудитории. Только ли от языка судопроизводства это зависит? Как насчет продвигающегося мнения, что это, несмотря на резонанс, «обычное уголовное дело»? Как в действительности оно должно повлиять на «общественное сознание»?
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дело Шерзата. Защита пошла ва-банк?
Запрос на Справедливость: казахстанские нюансы
Дело Шерзата: вопросы и провокации
Как все начиналось
Наверное, надо начать с того, что о трагическом происшествии в Талгаре многие СМИ сообщили практически сразу — 4 октября прошлого года. Но, признаться, тогда оно вызвало, скажем так, точечный и весьма сдержанный резонанс: многие обратили на него внимание лишь потому, что жертвой оказался подросток, а также из-за причины кровавого конфликта, которой была названа бутылка пива. Можно сказать, что большинство просто прочитало эту новость, возмутилось, покачало головой и вернулось в свои ежедневные проблемы.
Однако после того, как отец Шерзата, тогда никому неизвестный Каржаубай Нурымов, с несколькими десятками талгарцев вышел на пикет и заявил о том, что далеко не все участники «группового убийства» были задержаны, а дело может быть «спущено на тормозах», власти и общество откликнулись. Несанкционированный митинг, тем более по такому заведомо резонансному делу — это настоящее ЧП для властей, причем не только регионального уровня. Кроме того, благодаря соцсетям резонанс от этого дела распространился буквально по всей стране, на что не могли не отреагировать СМИ.
Дальнейшие события лишь раздували и без того разгорающийся огонь. Это, в первую очередь, странный поджог дома семьи Нурымовых, а также периодические заявления о каких-то угрозах. Появлялись свидетельства о существовании в Талгаре некой банды «Хуторские», а также о ее «лидере» Хасане Касымбаеве, один брат которого возглавляет аппарат акима Талгарского района, а другой сидит за заказное убийство. При этом правоохранительные органы заявляли, что никакого ОПГ не существует (впрочем, с процессуальной точки зрения они были правы). Затем, уже в декабре, покончил с собой брат Каржаубая, Нурганат Гайыпбаев — родственники до сих пор отказываются в это поверить, а его похороны превратились в не очень адекватные выступления Нурымова и его сестер. Повторимся, что не стоит поддаваться эмоциям, а помнить, что закон есть закон, и он один на всех.
Суд да дело
Действительно, если не поддаваться эмоциям, то «Дело Шерзата» — не первое и, к сожалению, не последнее. В мае того же 2024 года в Туркестанской области был убит сверстник Полата, и его родственники также заявляли, что не все виновные дойдут до суда. Были случаи насильственной смерти несовершеннолетних в Актобе и других регионах. Пресса и депутаты стали говорить о растущей подростковой преступности и… переходили на другие злободневные темы.
Но почему именно Талгарская трагедия выделилась на фоне десятков других дел? Некоторые наблюдатели, наши коллеги и даже профессиональные юристы стали говорить об искусственном раздувании этой темы, приводя в пример дело Бишимбаева. Возможно, это в некоторой степени и так, но полностью сравнивать процессы не стоит — в случае с Шерзатом к трагедии привели другие обстоятельства, на скамье большее число подсудимых, да и не было главного — якобы прямого интереса властей и правоохранительных органов.
Более того, надо вспомнить, что на этом деле стали откровенно хайповать некоторые блогеры, а в соцсетях появились анонимные и полуанонимные призывы выходить на митинги с откровенно фейковыми вбросами о неких колоннах, едущих в Талгар. Это уж точно не нужно были ни МВД, ни прокуратуре, ни даже самим потерпевшим, которые постоянно предостерегали от этих самых митингов и даже кровопролития. Поэтому были логичны версии, связанные с тем, что кто-то намеренно раскачивает ситуацию, способную привести к беспорядкам. Впрочем, дальше социальных сетей все эти попытки не ушли.
Даже сложилось мнение (до сих пор нормально не опровергнутое, между прочим), что перенос процесса из Каскелена в Талдыкорган был обусловлен мерами безопасности — якобы подальше от потенциального очага напряженности и сферы влияния несуществующих (по бумагам МВД) «Хуторских». То есть, можно было с натяжкой предположить, что к несанкционированным митингам призывали не анонимные сторонники Шерзата, а некие силы, которые могли стоять за группой, часть которой сейчас находится на скамье подсудимых.
Косвенно это может подтверждаться тем, о чем мы упомянули в прошлом материале, где рассказывали о том, что подсудимые исключили для себя возможность признания вины и покаяния, а выбрали потенциально проигрышную тактику «защиты нападением». То есть, еще не до конца можно быть уверенным, что некие силы стоят за «хуторскими», независимо от того, ОПГ это или нет. Может быть, они тоже как-то были заинтересованы в «раскачивании темы», чтобы, как говориться, «воспользоваться ситуацией»? Это, конечно, немного додумано, но совсем отрицать такую версию пока не стоит.
Но мы сегодня о другом. Создалось впечатление, что после того, как прошла волна в соцсетях, интерес к процессу поубавился, но, заметим, это только среди русскоязычной аудитории. Дело в том, что судебные слушания идут на государственном языке, а перевод на русский, скажем так, не всегда корректен. Дело даже не в филологической составляющей, а в том, что находится «между строк» и, может быть, даже связано с менталитетом. Некоторые блогеры-журналисты, «заработавшие» (в том числе, от слова «бот») подписчиков на различных хайпах, стали даже возмущаться — почему, мол, не идет перевод на русский, хотя что-то не было слышно таких претензий, когда тот же процесс Бишимбаева не переводился на казахский. Но это так, к слову, хотя это тоже показатель.
Нет худа без…
Зато есть некоторые казахоязычные YouTube-каналы, которые не просто транслируют происходящее на суде в Талдыкоргане, но и параллельно проводят журналистские расследования, оперативно обращаются к экспертам-правоведам, развивают тему, но при этом делают это профессионально. Это мы к тому, что данный процесс, ко всему прочему, дал дополнительный стимул к развитию правовой культуры и журналистского мастерства, чему нельзя не порадоваться.
Да, сравнивать с процессом над Куандыком Бишимбаевым можно, но в несколько другом ключе. Например, тот суд тоже стал своеобразным практическим видео-учебником о том, как проходит судопроизводство, да еще и с участием присяжных заседателей. Однако, наверное, хорошо бы параллельно проводить ликбез в комментариях, который бы пояснял и прояснял некоторые моменты и отвечал на спорные вопросы. Например, почему судья снимает одни вопросы, а другие переспрашивает сам? Или уместны ли были выпады стороны защиты в сторону представителя обвинения? Каков механизм принятия решений и ответов на ходатайства сторон и так далее.
Да, безусловно, требования синхронного перевода на русский язык, мягко говоря, беспочвенны, а то и провокационны. Но в этом плане следует отметить, что многие русскоязычные СМИ вполне объективно освещают процесс, хотя редко кто «копает глубже». Но вынуждены отметить, что среди наших коллег есть и такие, кто поддался хайпу с видео, на котором видны улыбающиеся лица подсудимых — нужно было хотя бы помнить, что председательствующий изначально запретил демонстрировать их лица.
Кстати, судья Жанузаков на одном из прошлых заседаний заявил, что проводится проверка по поводу того, кто снял это видео и распространил его в соцсетях. Это, кроме нарушения закона и запрета суда, в немалой степени повлияло на общественное мнение. Никто не спорит с тем, что многие представленные на суде доказательства говорят не в пользу подсудимых, но вынуждены напомнить, что преступником человека может назвать только суд. Это, кстати, хорошо бы усвоить и комментаторам в соцсетях, многие из которых, как мы отметили в самом начале, уже вынесли свой приговор — как минимум, пожизненное заключение. Но, к слову, судя по обвинительному заключению и вменяемой подсудимым вине, такое наказание не предусмотрено Уголовным кодексом никому из них.
Действительно, к великому сожалению, подобные преступления в Казахстане были до этого и продолжают совершаться. В каждом из них гибнут дети, а в некоторых случаях — с еще большей жестокостью. И, по большому счету, каждое из них достойно общественной огласки. Но раз так получилось, что по каким-то причинам (обычным образом или искусственно — уже неважно) «Дело Шерзата» получило такой резонанс, то оно должно пойти дальше, чем справедливый приговор группе подсудимых с «Хутора» (в данном случае, имеется в виду район на окраине Талгара). Почему?
Урок на завтра
Этот процесс вскрыл действительность, с которой приходилось уживаться людям вне больших городов и тем, у кого нет возможности «быть услышанным». Мы об этом, кстати, говорили еще прошлой осенью, отмечая, что семья Шерзата в желании добиться справедливости шла на отчаянные поступки. Это, как было отмечено выше, их не оправдывает, но хотелось бы верить, что это станет уроком для всех других — для властей, полиции, прокуратуры, общества, да и для потенциальных преступников, как бы это трагично ни звучало. Ведь никто не гарантирует, что подобного рода страшные преступления не повторятся.
Но хотелось бы, чтобы появилась если не нулевая терпимость к такой жестокости, то некая надежда, что впредь подобные действия будут вызывать моментальную реакцию у общества — сначала у соседей и невольных свидетелей, а потом у правоохранительных органов и местных властей — чтобы ни у кого даже мысли не возникло о том, что можно что-то скрыть по тем или иным причинам.
И еще. «Дело Нукеновой», как считается, стало неким триггером для продвижения так называемого закона о бытовом насилии, который даже стал называться «Законом Салтанат». Но появится ли «Закон Шерзата» в нашей стране — вопрос еще открытый. Впрочем, если говорить с точки зрения юриспруденции, то это должно быть что-то в виде комплекса поправок в различные нормативно-правовые акты, а не только в Уголовный кодекс с нужным, но немного банальным ужесточением наказания за покушение на жизнь несовершеннолетних. Кроме того, нужно определиться с понятием ОПГ, несколько расширив его, а также поняв, что не так со статьей «бандитизм» и можно ли ее применять в подобных случаях — когда есть признаки устойчивой организации, члены которой были ранее судимы, но при этом нет доказательств тому, на что эта группа и отдельные ее члены живут (напомним, многие из подсудимых, да и некоторые свидетели — «временно неработающие»).
Также, как нам видится, предстоит очень много сделать на местах. Это касается департаментов полиции, прокуратуры и акиматов. Тут, наверное, более важна не нормативная база и изменения в законодательстве, а серьезная работа по выявлению и, как минимум, поставке на учет различных групп подростков и молодежи. Такое, кстати, давно уже практикуется в западных странах. И, конечно же, нужна объективная проверка в правоохранительных органах. Ведь общественное возмущение началось именно с заявлений о том, что существует некий полковник или подполковник, который «крышует» местных бандитов. Почему-то об этом сейчас все забыли, а о результатах служебной проверки, о которой было заявлено еще в середине октября прошлого года, никто ни в МВД, ни в ДП Алматинской области до сих пор не рассказал. Может быть, вспомним?
Фото из открытых источников