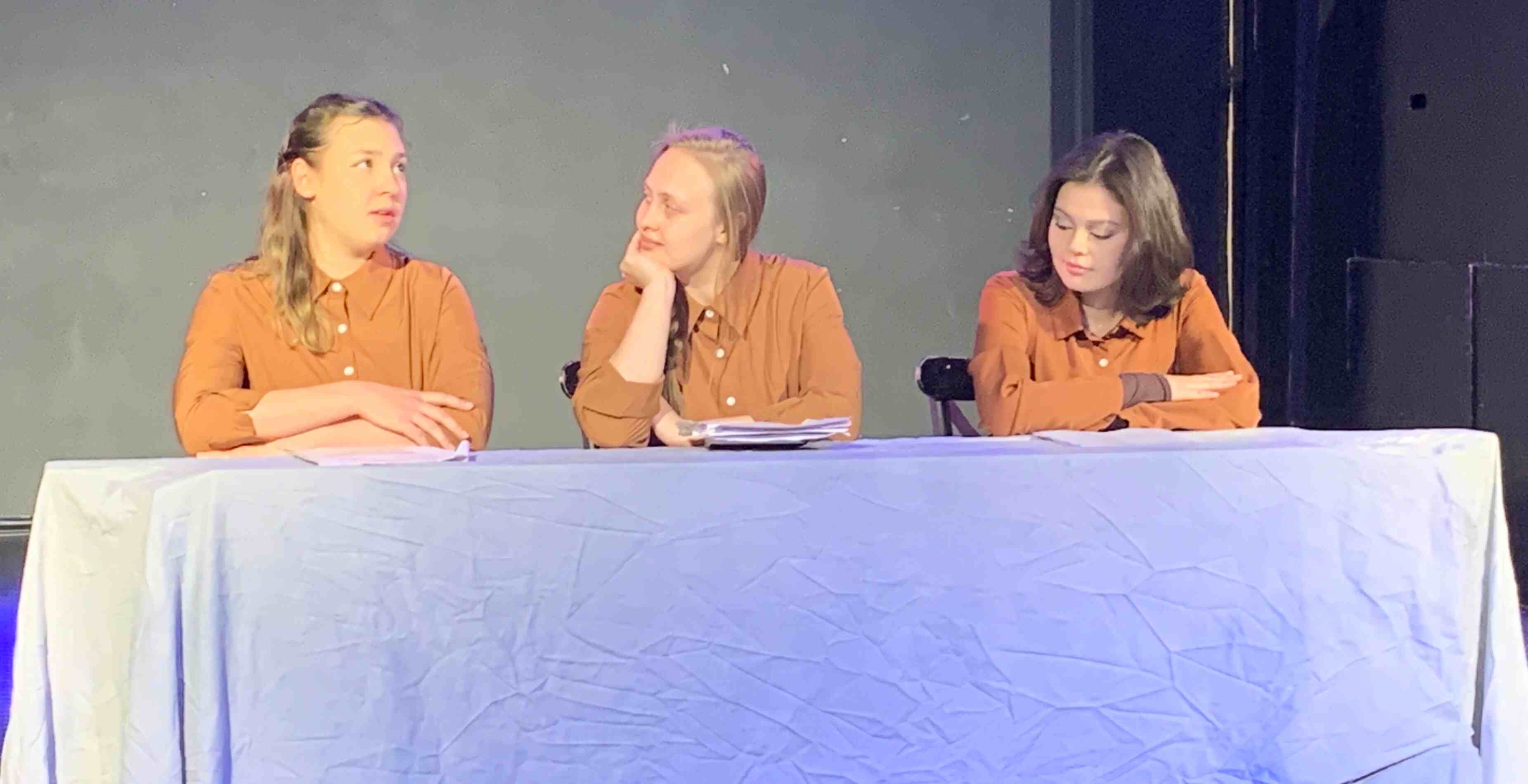На днях известный политолог, автор энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияр Ашимбаев сообщил, что издал свой новый труд — книгу «Война известная и неизвестная». Как он сам подчеркнул — написал книгу к 80-летию Великой Победы. Данияр Ашимбаев пытался разобраться «в истоках, ходе и итогах войны, месте и значении национального фактора в ее предыстории и истории». Книга уже поступила в продажу, а подробности политолог обещал позже. Читатели Check-point.kz первыми узнают эти подробности из эксклюзивного интервью с Данияром Ашимбаевым.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
На шествие выходят неравнодушные люди — Мурат Абдушкуров
Казахи были добрее. О чем говорили Бельгер и Исабеков
Ескендир Елеусизов: Юбилейный День Победы — особенная дата
«Мы часто выдергиваем события из контекста»
— Данияр Рахманович, а сколько у вас на текущий момент написанных книг? И какие из них дались вам самой «большой кровью»?
— Давайте подсчитаем. 12 изданий «Кто есть кто». «История власти». «Казахстан 90-х». «Вся королевская конница». «Самый культурный народ». «Война», получается, будет восемнадцатой. Самой трудной была, наверное, «История власти». Мы ее писали с покойным Виталием Хлюпиным и по ходу практически полностью переработали. Неделями сидели в архивах, сверяли, уточняли. При этом одновременно к печати готовился очередной том «Кто есть кто в Казахстане». Кажется, я за тот год похудел на 20 кило.
Но я не могу сказать, что книги прямо-таки «кровью» давались. Это потрясающе интересные периоды: ставишь себе задачу и примерные сроки — и работаешь, читаешь, узнаешь, изучаешь, пишешь, а еще и заканчиваешь и издаешь. Сразу неизданная или неоконченная работа лежит потом годами и к совести взывает…
— И вот вы написали и издали новую книгу, с интригующим названием — «Война известная и неизвестная».
— С ней получилось немного неожиданно. Последние годы много копался в антропологии, лингвистике, этнографии, национальных вопросах и периодически рассказывал о своих находках и выводах друзьям и коллегам. На одном мероприятии обсуждался вопрос о предстоящем юбилее Победы, а у меня как раз несколько интересных идей по этому поводу было и как-то, слово за слово, возникла тема новой книги о войне и о Казахстане в годы войны. Пообещал написать и издать ее к 9 мая и на несколько месяцев плотно засел за источники. Первоначальный план работы, как говорится, улетел в трубу. Оказалось, что многие события этой истории давно вылетели из головы, а за эти годы появилось множество исследований, в оборот вошло огромное число документов. Получилось, что заново прошел всю эту историю. Открыл для себя, можно сказать. Начал с истоков — идеология, экономика, демография, геополитика. Прочитал «классиков» расизма и национал-социализма, материалы Нюрнбергского процесса. От них перешел к европейской истории предвоенного периода. Потом пошел на Восток: Япония, Китай, Центральная Азия, Ближний Восток, Турция, «восточные» проекты Третьего рейха. Потом попытался вернуться в предвоенные годы в СССР, но тут же встал вопрос советской истории, теории и практики советской национальной политики. Поэтому вместо 1939-го или 1927-го пришлось нырнуть в 1913-й.
Для понимания Великой Отечественной войны принципиально важно понять ее расовые и национальные мотивы, причем их теорию и практику со всех сторон фронта. Мы часто выдергиваем события, скажем, казахстанской истории из контекста — регионального, странового, а это сужает восприятие, выкидывает причинно-следственные связи, зато обильно дополняет идеологией и мифами. Хотелось попытаться разобраться в этом вопросе и понять, в частности, каково было наше место в этой истории.
«Для нас это был не просто конфликт идеологий»
— Как, по-вашему, соотносятся устоявшиеся обозначения (термины) «Великая Отечественная война» и «Вторая мировая война»? И в каких их значениях можно и должно применять у нас в Казахстане?
— Великая Отечественная — это часть Второй мировой, ограниченная рамками советско-германского фронта, но имеющая свою принципиальную специфику. Для европейской или американской историографии — это «классическая» война. Кровавая, но классическая. Англия воевала за свою империю, американцы против «плохих парней», немцы — за пересмотр Версальского мира. Их подход ставит эту войну вровень со Столетней войной или наполеоновскими войнами. Для нас, народов бывшего СССР, это был не просто конфликт идеологий — нацизм и империализм против социализма. Это была война на уничтожение и порабощение. Славяне считались не просто людьми второго сорта, а вообще недочеловеками, а уже азиатские народы СССР — и просто дикарями. Нацистов Азия толком не интересовала, кроме возможности прорыва в Индию. Предполагалось, что «Туркестаном» должна будет заняться Турция, которая в войну не рискнула вступать, или Япония, с которой Берлин и Рим разделили сферы влияния. Но и Токио не рискнул начать войну против СССР. По сути, интерес Гитлера к «азиатским дикарям» возник исключительно вследствие потерь, понесенных вермахтом летом-осенью 1941 года. Немцы заставили венгров и румын выслать войска на советский фронт, но этого было мало, и только тогда возник проект вербовки военнопленных в качестве дополнительного пушечного мяса под соусом разнообразных «легионов». Тут нацисты использовали польский опыт — речь идет о проекте «Прометей», в рамках которого польская разведка координировала работу национальной антисоветской эмиграции в Европе и Азии. С разгромом Польши эти проекты — и кадры — достались немцам. Со своей стороны аналогичную работу проделывали и японцы, которые ставили задачу проведения «деколонизации» Азии и переподчинение местных народов собственной «высшей расе».
Поэтому для нас эта война была войной не просто за свободу, а за выживание. Поэтому, как ни крути, это Великая Отечественная. Вместе с тем, в это понятие не входят «Зимняя война», события в Ираке и на Дальнем Востоке. Это уже, скорее, Вторая мировая.
— Я читал, что ваш дедушка, если не ошибаюсь, был фронтовиком. Какое это имело для вас значение? Вам интересны были его воспоминания, разумеется, если они были?
— Помните песню: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой». Понятно, что тут речь не только о России. Один мой дед воевал на Курской дуге. Он рано скончался, я его не застал. Другой дед воевал под Ленинградом, прошел блокаду, работал в казахской фронтовой газете. Однажды мне задали сочинение в школе про войну, я пришел домой и начал его расспрашивать. Помню, он говорил про такой случай: ехал в редакцию на трамвае, спрыгнул на остановку раньше, а через несколько секунд немецкий снаряд попал в трамвай. Никто не выжил. До сих пор дрожь берет от этого рассказа… К сожалению, он не оставил мемуаров, но я использовал в книге воспоминания его сослуживца по редакции.
Я вставил в книгу цитаты из классических работ военных историков, воспоминания наших полководцев, а также рассказы казахстанцев о тех или иных эпизодах Великой Отечественной войны. Многие наши ветераны оказались не чужды литературному творчеству и много сделали для сохранения памяти. Несколько лет назад большой проект по записи фронтовых рассказов сделал российский историк Артем Драбкин; я использовал некоторые собранные им воспоминания.
Понимаете, в самом начале я взял в качестве эпиграфа цитаты казахстанских руководителей о войне — Ундасынов, Шаяхметов, Кунаев, Назарбаев, Токаев. И у Кунаева была мысль насчет того, что не было сражения, в ходе которого не воевали казахстанцы. Мне показалось интересным проиллюстрировать ход войны соответствующими рассказами или документами. Конечно, использованного материала очень мало, даже по отношению к тому массиву, который опубликован. Но физически все обработать невозможно. Пришлось пожертвовать многими наработками и идеями, чтобы уложиться в сроки.
«Они знали, что их подвиг сделал страну сверхдержавой»
– Какова структура вашей новой книги, к какому жанру, виду, скажем так, мы можем ее отнести? К историко-исследовательской, научно-популярной?
– Как я уже говорил: истоки, европейская предыстория, азиатская предыстория. Затем — фактически очерк истории СССР и советской национальной политики. Саму войну поделил на две части: между ними несколько глав о мобилизации, эвакуации и национально-идеологической политике в годы войны. Война, кстати, получилась несколько меньше, чем ее предыстория. Что касается жанра, то я старался сделать книгу более читабельной, поэтому она скорее научно-популярная.
— А чего вы, в принципе, касались в книге и по какой схеме, на какой платформе она выстроена? Допустим, ближе к Казахстану или в принципе это широкая панорама с международным уклоном?
— Изначально я планировал сделать работу полностью на казахстанском материале, даже оглавление примерное набросал, но по ходу стал наталкиваться на то, что мне самому казалось непонятным, а при обсуждении с друзьями слышал от них схожие вопросы. И в этих вопросах нужно было разобраться. Изначальный план стал сыпаться: во-первых, ему не хватало предыстории и контекста, которые нужно было изучить и добавить; во-вторых, Казахстан был частью страны, а многие «казахстанские» вопросы были частью более крупных процессов. К примеру, наши бойцы на фронте — это, скорее, к истории войны, нежели непосредственно республики. Поэтому книга получилась о глобальной истории, но все равно через «казахстанские очки».
— «Детский» вопрос в духе «Что, если…». Представим на минутку, что Казахстана как обширной территории (пресловутая истина: Казахстан вместит пять Франций…) не было бы, и РФ сразу бы граничила с Узбекистаном, Кыргызстаном? Помните пресловутое: «Девять из десяти пуль были отлиты из казахстанского свинца»?
— Вспоминается в этой связи многолетняя дискуссия о роли лендлиза и, на мой взгляд, очень хорошо сказал Анастас Микоян: мы бы справились, но война продлилась на несколько лет дольше. Я не сторонник мифа о том, что войну выиграло только мужество казахских (казахстанских) воинов, но, на мой взгляд, без них война была бы более трудной. И дело не только в солдатах и офицерах. Казахстан принял сотни тысяч эвакуированных, десятки предприятий, которые обеспечивали фронт самым необходимым. Наши геологи и инженеры смогли обеспечить быструю разработку критически важных месторождений. Да, у нас не делали танки и самолеты, но сырье для них, боеприпасы делались в том числе и в Казахстане. Не будь Казахстана на своем месте, если уж говорить гипотетически, СССР войну бы и не проиграл, но это заняло бы существенно больше времени.
— Как бы вы лично оценили бы значение Казахстана в системе СССР именно в годы ВОВ?
— Не нужно гипертрофировать роль республики и ее народа, но и категорически нельзя ее преуменьшать. В то же время не стоит и выделять КазССР из СССР в целом и Советского Востока в частности. Мы были частью одной страны, одного народа, одной системы управления. В какой-то степени война стала определенным рубежом: Советская Азия в предвоенные годы проходила бурный и сложный этап модернизации и нациестроительства и воспринималась порой в качестве экзотики, если можно так выразиться. И Азия смотрела на Центр несколько иначе. В ходе войны казахстанцы вплотную соприкоснулись с другими народами и территориями страны, а страна, по сути, открыла для себя Казахстан (и Среднюю Азию). Наши земляки защитили Москву, сражались под Сталинградом и Курском, брали Берлин. Дошли по Победы в самом логове врага. Мы часто воспринимали ветеранов как седых аксакалов, порой чудаковатых или даже занудных, а ведь тогда им было 20 с лишним. И они вместе с фронтовыми товарищами сокрушили Третий рейх. Они стали героями страны — не только Казахстана, а всего СССР. Они знали, что в том числе и их подвиг сделал страну сверхдержавой. Инженеры, рабочие, геологи, колхозники, шахтеры знали, что их труд приблизил Победу. Если говорить конкретно о казахах, то нация в Войне обрела большое число настоящих, современных героев, чего не было уже много-много лет. Можно сказать, что мы стали частью новой мировой истории, а это, сами понимаете, для национального самосознания момент принципиальный.
«Идет негативизация образа СССР»
— Вы перелопатили неимоверное количество источников, включая переводные (написанными не на русском языке). Скажите честно — а много ли и вообще были ли наши, «местные» источники, написанные казахстанскими авторами. Не говоря уже о литературе, написанной на казахском языке?
— Казахстанский материал — это, в первую очередь, воспоминания ветеранов войны; они, кстати, практически все переведены на казахский, но читают их очень мало. Сейчас, увы, вообще мало кто читает книги. Во-вторых, архивные материалы, в-третьих, периодика времен войны. Очень ценные сведения можно найти в наших архивах и библиотеках. Было бы желание искать. Не могу сказать, что у нас не было или нет хороших историков. И по войне в советское время издано немало интересного — взять хотя бы работы того же Козыбаева. И сегодня выходят монографии и статьи наших авторов, которые работают с литературой, с документами. Многие при этом не страдают «сведением исторических счетов» или «постколониальным синдромом». Конечно, есть большой массив «фольк-историков» и «деколонизаторов», но тратить свое время на пропаганду и мифы мне кажется не очень продуктивным.
— Сегодня происходит определенная ревизия по ходу, по итогам войны. По моим ощущениям, она больше касается той ее части, которая называлась и называется по сию пору ВОВ…
— Политическая история всегда есть сумма фактов, идеологии и конъюнктуры. Всегда есть и «белые пятна», которые остаются вне поля зрения. Всегда есть оценки, с которыми не все согласны. Есть разница в национальных и поколенческих подходах. Нет универсальной истории. Вы преломляете события, их описания через свой менталитет, через свой опыт, взгляды, сравниваете с другими и трактуете их так, как считаете нужным или удобным.
Что касается ревизии итогов войны, то нужно понимать: во-первых, геополитические балансы зависят не только от прошлого, но и прежде всего от современного состояния дел. И сохранение баланса или правил игр требует не только апелляции к истории, но и наличия возможности этот баланс и правила обеспечивать или корректировать.
Во-вторых, историю писали победители; проигравшим или статистам она не всегда нравится, и они рано или поздно будут пытаться ее переписать. Да и победители, как хорошо известно, достаточно быстро оказались в состоянии конфронтации. До поры, до времени общая история была своего рода константой, а затем каждый начал конструировать из нее свои, новые смыслы. Изменилась и ценностная шкала, а переписывание истории стало фактором внутренней и внешней политики. После Холодной войны начался новый этап геополитического противостояния, связанный во многом с манипулированием массовым сознанием. Идет негативизация образа СССР и в том числе и значения Великой Отечественной войны как одного из ключевых событий его истории. Советская система при всех ее недостатках была мощной альтернативной глобализму, капитализму и экономическому колониализму, и вполне понятно, кто и почему пытается максимально стереть и исказить ее образ, принципы, историю, значение. Кроме того, пропаганда тематики российско-имперского и советского «колониализма» нужна для подрыва влияния и авторитета современной России на постсоветском пространстве. Туземцы должны служить интересам глобального капитала — собственно, в этом вся суть постколониализма. Многие ли сейчас знают о колониальной политике западной цивилизации, работорговле, тех же «опиумных войнах», кровавой практике национал-социализма и японского милитаризма? «Лишние» знания сейчас аккуратно выпиливают из исторической памяти и заменяют другими образами. И уже есть несколько генераций туземцев, которые полностью перешли на внешнее управление интеллектом.
— Не пробовали экстраполировать эпоху стремительных изменений геополитики, которой задала тон еще Первая мировая война, на день сегодняшний? Не показалось ли вам, что мир вновь «лихорадочно замер» на некой зыбкой грани? Или вы считаете, что уроки истории пошли впрок и как бы ни «колбасило» ту же современную Европу, планете больше не угрожают войны мирового масштаба? Или угроза все же есть?
— Человечество всегда воевало. История нашей цивилизации — это, с одной стороны, история войн, а с другой — история культурных, научных, технологических скачков и спадов. Мы меняемся и уже воюем так, что юридически ни одной войны в мире нет. Но мир от этого не стал стабильнее. Более важно — это то, что мы можем позволить себе мир, согласие и стабильность. Их часто называют штампами, но в современном мире это самое большое достижение, которое — заметим — тоже пытаются подвергнуть ревизии.
А если уж более глобально, то одним из главных уроков войны стало нежелание человечества допускать существование политических систем, основанных не просто на расизме, шовинизме, социал-дарвинизме и милитаризме, а на стремлении физически уничтожить «неправильные» человеческие популяции. Хотя и к этой грани мы порой весьма близко подходим.
— Каково ваше собственное отношение к Великой Отечественной войне?
— Мне кажется, что это величайшее событие нашей истории. Наши деды победили абсолютное зло и подарили будущее всему человечеству. Мы не должны забывать об этом.
Фото из открытых источников