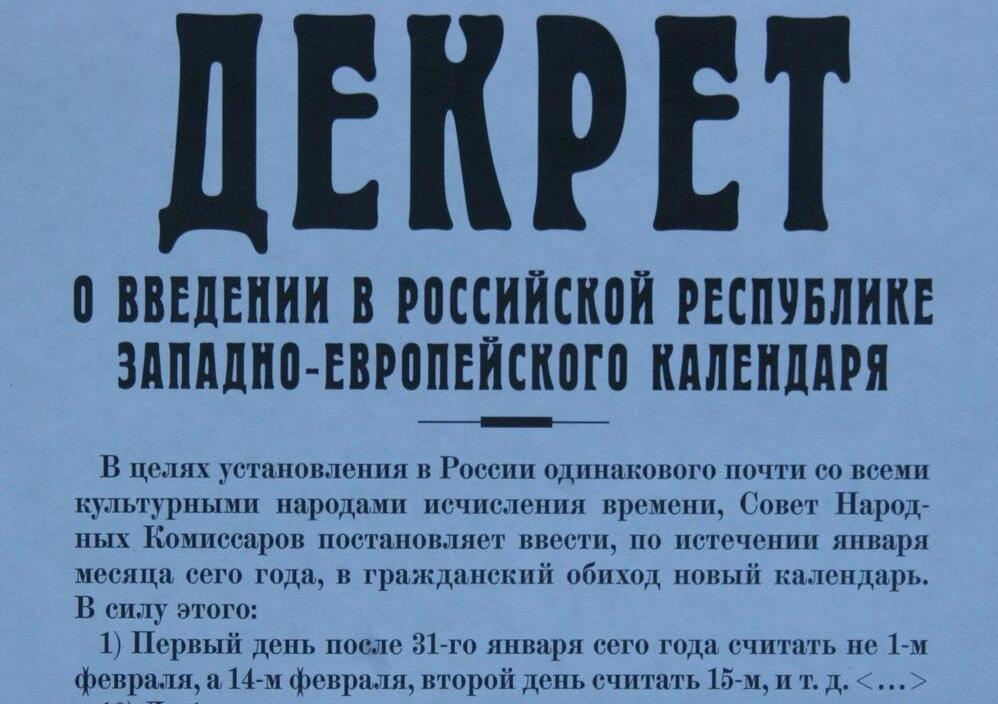У многих наших соотечественников старшего и среднего поколений буквально на подкорке сознания высечено — 30 апреля 1945 года был взят рейхстаг. Это главное событие Великой Отечественной войны у нас непременно ассоциируется с подвигом Рахимжана Кошкарбаева. Но упорные бои в это время шли и в других знаковых местах нацистской столицы, а также по всему Восточному фронту, где гитлеровцы оказывали ожесточенное сопротивление, сравнимое с агонией обреченного врага. Там тоже проявляли героизм выходцы из Казахстана, как и со всего Советского Союза, еще не зная, что до окончательной победы над врагом остаются считанные дни.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Дни Победы. Они сражались за Родину
Дни Победы. «Успех зависит от смелого маневра»
Дни Победы. «Под Кенигсбергом мы потеряли всю армию»
Вместо введения
Для начала немного субъективного мнения, как автора этих строк. Не знаю, как младшие поколения, но мы, дети 1970-80-ых, всегда знали, что первым над рейхстагом водрузил Красное знамя наш соотечественник — Рахимжан Кошкарбаев. Об этом говорил наш преподаватель истории в школе (кстати, тоже фронтовик), об этом писали в республиканских газетах и, в конце концов, об этом гласила мемориальная табличка на доме, в котором он жил на проспекте Ленина в Алма-Аты (где на первом этаже размещен магазин «Россия»).
Только в последние годы российские СМИ стали признавать этот факт, в принципе, правильно интерпретируя его с исторической и даже немного с политической точки зрения. Однако следует отметить, что тогда, в сердце столицы нацистской Германии, никто не делился на национальности. Да, некоторые идеологические принципы диктовали кое-какие моменты, а отдельные воинские подразделения действительно устроили что-то вроде «социалистических соревнований» по водружению своего знамени над рейхстагом (для этого даже пошили десятки стягов), но все же это была победа одна на всех.
Кроме того, следует добавить, что были некоторые проблемы с коммуникациями, а также факт, что каждую информацию приходилось по несколько раз перепроверять, так как уже были случаи о «неправильных» докладах о взятии того или иного пункта и вхождения бойцов РККА в рейхстаг. Впрочем, мы все-таки сделаем упор на Кошкарбаеве — не потому, что он казах, а потому, что действительно был первым.
Гвардии лейтенант
Но тут следует вернуться на сутки назад, чтобы понять всю ситуацию на тот день и даже час. Итак, ночью 29 апреля был захвачен стратегически важный мост Мольтке через реку Шпрее. Одним из подразделений, совершивших этот поистине героический ход, переломивший битву за Берлин, были подразделения легендарной 150-й стрелковой дивизии, знамя которой можно встретить на всех парадах Победы. Так вот, она была создана на основе 151-й стрелковой бригады, сформированной в Кустанае.
В составе этой дивизии был 674-й стрелковый полк, куда, в свою очередь, входило подразделение Рахимжана Кошкарбаева, и его взвод оказался среди первых, который форсировал Шпрее в черте города. Этим его бойцы как раз и обеспечили захват моста Мольтке, что позволило укрепиться на другой стороне реки. Однако времени на отдых не было, да и, признаться, многие не желали отдыхать и даже не позволяли себе передышку. Во-первых, это дало бы возможность немцам перегруппироваться и подтянуть пусть хилые, но все равно кое-какие силы, а во-вторых, нужно было идти вперед и положить конец этой войне.
В общем, в тот же день гвардии лейтенант Кошкарбаев первым ворвался в так называемый «Дом Гиммлера» — здание Министерства иностранных дел. Отметим, что это была настоящая крепость с двухметровыми стенами и насыпанным вокруг земляным валом, что позволяло вести оборону, как минимум, несколько дней. Но «кошкарбаевцы», а затем другие бойцы заняли его за пару часов. Важность захвата «Дома Гиммлера» имела прямую стратегическую значимость — из него открывалась прямая дорога на рейхстаг.
Только представьте — всю войну думаешь о том, что мы придем-таки к стенам логова нацистской Германии, а оно вот тут, в нескольких десятках метров. Правда, до него еще нужно было добраться, да и просто рассмотреть здание было невозможно из-за непрекращающегося огня противника, который принято называть шквальным. Но нужно было идти вперед, в том числе и по упомянутым выше причинам. И наш соотечественник, поминая его недавние подвиги, был выбран одним из тех, кто должен был совершить на тот момент невозможное — водрузить знамя на рейхстаг.
Командир батальона той самой 150-й дивизии Степан Неустоев так вспоминал встречу с ним: «Навстречу мне вышел невысокого роста, широкий в плечах человек. И я тут же узнал его: лейтенант Кошкарбаев. О нем в дивизии ходила слава как о бесстрашном офицере». Кстати, известные герои Кантария и Егоров тоже служили под началом Неустоева, за что, в принципе, он и получил звание Героя Советского Союза. Но это было потом, тем более, осуществить задуманное «с наскока» не получилось — такие попытки предпринимались еще 29 апреля.
На рейхстаг!
Впрочем, непосредственно задание Кошкарбаев получил от своего комбата Давыдова. В журнале боевых действий 150-й стрелковой дивизии одному из самых важных моментов Великой Отечественной уделены скромные и даже скудные строки — что лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и красноармеец Георгий Булатов «по-пластунски подползли к центральной части здания и на лестнице главного входа поставили красный флаг». Но за этой строчкой кроются несколько часов подвига, тысячи пуль, пролетевших над головой, и жизни нескольких бойцов, которые так и не доползли до намеченной цели.
Но вот как сам Рахимжан-ага так описывал этот момент:
«Комбат Давыдов подвел меня к окну. «Видишь, – говорит, – рейхстаг? Подбери нужных людей, будешь водружать флаг». И передал мне темный, довольно тяжелый сверток — флаг, завернутый в черную бумагу… С группой разведчиков я выскочил из окна. Вскоре нам пришлось всем залечь. Начался сильный огонь. Возле меня остался один боец. Это был Григорий Булатов. Он все спрашивал: «Что мы будем делать, товарищ лейтенант?» Мы лежали с ним возле рва, заполненного водой. «Давай поставим свои фамилии на флаге», — предложил я ему. И мы химическим карандашом, который у меня оказался в кармане, тут же под мостиком лежа, написали: «674 полк, 1 б-н». И вывели свои имена: «Л-т Кошкарбаев, кр-ц Булатов». Мы тут пролежали до темноты. Потом началась артподготовка, и с первыми же выстрелами ее мы подбежали к рейхстагу. Булатов поднял флаг».
Вот и все. Строки, за которыми лежит почти четыре года кровопролитной войны. Хотя сам Кошкарбаев говорит, что «пролежали до темноты», в журнале зафиксировано, что красный флаг был поднят в 14.25. И вот что об этом вспоминает командир 150-й стрелковой ордена Кутузова Идрицкой дивизии генерал Василий Шатилов: «С моей позиции на четвертом этаже было видно, как разбросанные по площади фигуры людей поднимались, пробегали, падали, снова поднимались или же оставались недвижимыми. И все они стягивались, словно к двум полюсам магнита, к парадному входу и к юго-западному углу здания, за которым находился скрытый от моих глаз депутатский вход. Я видел, как над ступенями у правой колонны вдруг зарделось алым пятнышком Знамя». Знамя Победы! Вот только жаль, что неизвестна судьба этого знамени, но она, наверное, в сердцах всех, кто штурмовал рейхстаг в тот день, а также в крови тех, кто не дошел до него, начиная с 22 июня 1941 года.
Захват ратуши
Знаковым не только в идеологическом, но и в стратегическом плане был захват городской ратуши (другими словами, акимата или мэрии Берлина). Тут, в принципе, все было известно изначально — кроме фронтовых и всесоюзных газет того времени, об этом эпизоде битвы писал маршал Георгий Константинович Жуков. К слову, опять немного субъективности — его «Воспоминания и размышления» с обилием фотографий была в нашей домашней библиотеке, а потому несколько раз перечитана, но, признаться, как-то не обращал внимания на эти строки. Приведем их полностью, обращая внимание на то, что ратушу также не удалось занять с ходу:
«Тогда решено было пробиваться к ратуше через стены зданий, делая проходы в них взрывчаткой. Под огнем противника саперы закладывали тол и одну за другой взрывали стены домов. Еще не успевал разойтись дым от взрывов, как в проходы бросались штурмовые группы и после рукопашной схватки очищали от неприятеля здания, прилегающие к ратуше. В бой были введены танки и тяжелые самоходные орудия. Несколькими выстрелами они разбили тяжелые железные ворота ратуши, проделали пробоины в стенах, одновременно ставя дымовую завесу. Все здание заволокло густым дымом».
Потом в своих «Воспоминаниях и размышлениях» пишет: «Первым сюда ворвался взвод лейтенанта К. Маденова. Вместе с отважным лейтенантом смело действовали бойцы Н.П. Кондрашев, К.Е. Крютченко, И.Ф. Кашпуровский и другие. Они закидали вестибюль и коридоры ручными гранатами. Каждую комнату приходилось брать с бою. Комсорг 1-го батальона 1008-го стрелкового полка младший лейтенант К.Г. Громов пролез на крышу ратуши. Сбросив на мостовую фашистский флаг, Константин Громов водрузил над ратушей наше Красное знамя».
Кенжебай Маденов — это 20-летний уроженец поселка Актайсай Западно-Казахстанской области. В ряды Красной Армии он был призван в январе 1943-го. В ноябре того же года стал командовать пулеметным дивизионом, а позже, после окончания офицерских курсов, в должности командира стрелковой дивизии в 3-й Украинской и 1-й Белорусской линиях. О подвигах Маденова писали и другие авторы. Так, 1948 году в Воениздате вышла книга «Штурм Берлина», где повествуется так: «…На высокий купол ратуши взобрался раненный и окровавленный К. Маденов, скинул немецкий флаг наземь, и вместе с обессилевшим и окровавленным комсоргом К. Громовым водрузил Красное знамя, затем вдвоем они упали под развевающимся полотнищем».
Про Кенжебая Маденова писали Клаус Похе и Ганс Олива в своей книге «Когда кончалась ночь», военкор «Правды» Мартын Мержанов во фронтовых воспоминаниях «Так это было» и историк Белана в своем труде «Участие казахстанцев в завершающих сражениях Великой Отечественной войны». После демобилизации Маденов женился, родив и воспитав семерых детей. В Атырау его именем названа одна из улиц, а в департаменте КНБ (он долгие годы проработал в Гурьевском отделе КГБ) организован музей.
Впрочем, было немало других казахстанцев, отличившихся в Берлинской операции. И часто их тоже можно назвать первыми в своем роде. Тут надо отметить, что поздно вечером 30 апреля, когда уже стало известно о самоубийстве Адольфа Гитлера, немецкая сторона запросила о прекращении огня для переговоров. 1 мая, около 3.30 ночи в штаб 8-й гвардейской армии генерала Чуйкова прибыл начальник генерального штаба немецких сухопутных войск генерал Кребс, сообщивший о самоубийстве Гитлера и зачитавший его завещание. Он передал предложение от нового правительства Германии заключить перемирие. Сообщение тут же было передано Жукову, который сам позвонил в Москву. Сталин подтвердил свое категоричное требование о безоговорочной капитуляции, но немецкое командование на тот момент отказалось от условий, выдвинутых Иосифом Виссарионовичем.
Так вот, как оказалось, со штабом капитулировавшего немецкого генерала Кребса, находившегося в секторе имперской канцелярии Берлина, где был расположен бункер Гитлера, прямую телефонную связь установил алматинец Михаил Миронович Коробов. По сути, он стал первым советским солдатом, попавшим в логово фашизма в Берлине. Рискуя жизнью, Коробов наладил телефонную связь с имперской канцелярией для ведения переговоров между временным немецким правительством и советским командованием.
И на этот момент до этой самой безоговорочной и полной капитуляции оставалось 8 дней…
Фото из открытых источников