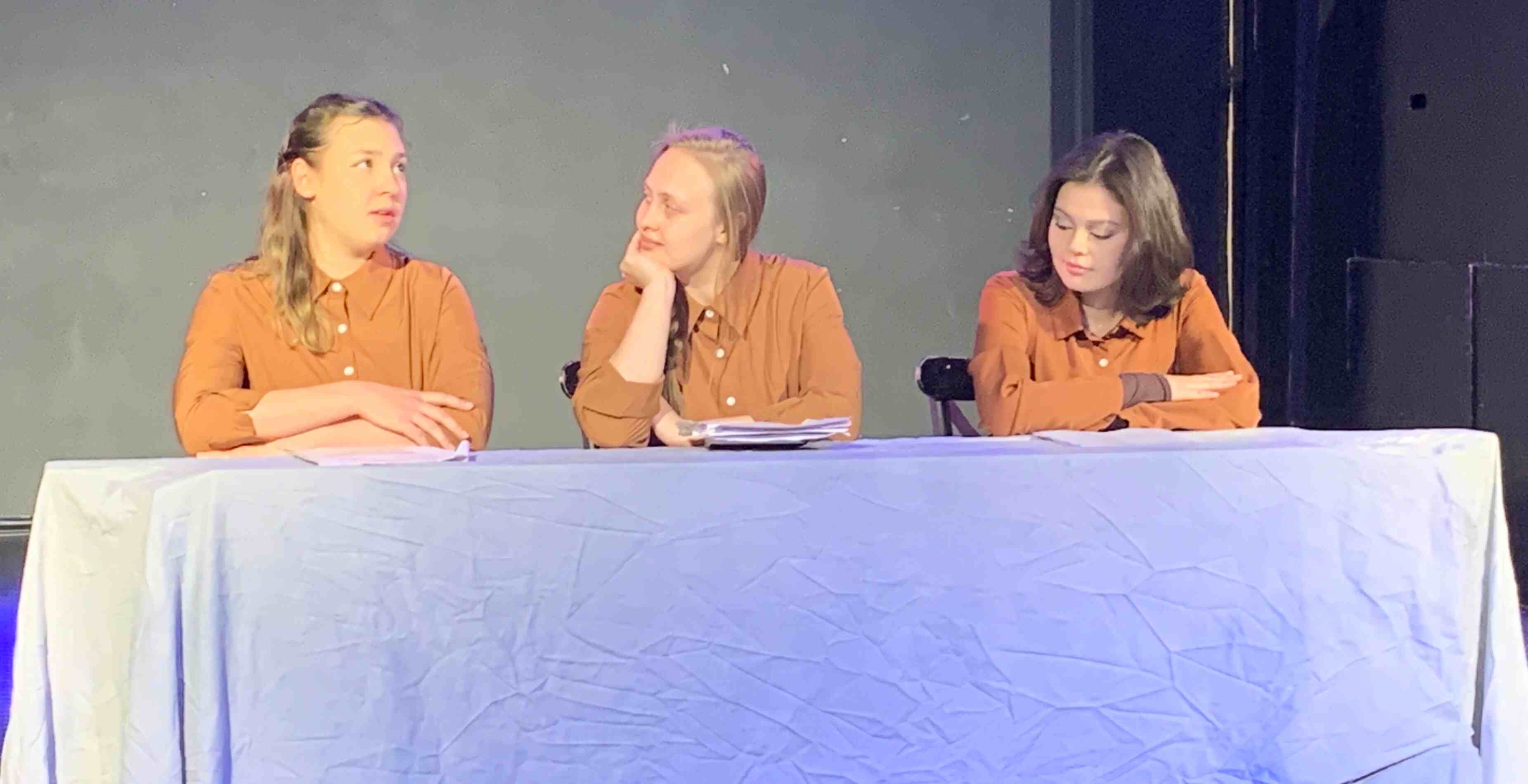Не так давно мы писали о том, как наши город и страна отражены в мировом кинематографе. Не менее интересно обстоит дело и в литературе. Алматы (включая и царское, и советское время) вдохновлял многих писателей на произведения о себе. Предлагаем вспомнить лишь некоторые примеры.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Медеу или Медео? В честь кого назван легендарный каток
Колыбельная для памяти: литературный Кантар-2022
Алматы: французский поцелуй истории
Отечественные писатели Алма-Ату как город полюбили сравнительно поздно. Большинство классиков казахской литературы XX века воспевали аул и маленькие города как некий утерянный рай. Впрочем, это отдельная тема — как в казахской и казахоязычной литературе описывался Алматы в ХХ веке. Для затравки упомянем, разве что, Мухтара Ауэзова, который в четвертом томе своего опус-магнума «Путь Абая» описал дореволюционный Верный. Увы, написан этот портрет города уже задним числом, в 1930-1940 годах. Один из сыновей Абая Кунанбаева – Абдирахман (Абиш) – после окончания Михайловского военного училища попал на службу в Верный. Но там заболел туберкулезом и вскоре скончался. Незадолго до смерти в Верном его навестил младший брат Магауя (Магаш) с друзьями Майканом и Утегельды, посланными Абаем из Семипалатинского уезда. Дни посещения Абиша его близкими и описываются в романе. В произведении довольно много рассказывается о верненском враче Фидлере. Также можно встретить описание скачек на Масленицу, в которых принял участие и победил старик Абсамет (гости из Семипалатинского уезда остановились как раз у него). Наконец, семипалатинцы удивляются обилию деревьев в Верном. Пожалуй, это самое подробное описание дореволюционного Алматы в столь крупном произведении казахской литературы. Остальные авторы чаще брали для описания советский период в истории этого города.
Собственно, первые крупные писатели, кто написал об Алматы как о состоявшемся городе, были личностями легендарными. Первым можно считать революционера-литератора Дмитрия Фурманова. В книге «Мятеж» он изложил свои впечатления о своем пребывании в Верном в 1920 году, во время подавления белогвардейского мятежа. «Мятеж» — произведение, где реальность перемешана с вымыслом. Книга вроде бы документальная, но многое Фурманов домысливает и фантазирует. Его описания домов и особняков, сохранившихся по сей день в Алматы, очень часто расходятся с данными архивов. Так, например, клинику доктора Фидлера (бело-зеленый дом, по сей день стоящий на пересечении улиц Казыбек би и Калдаякова) не обозначил как местное ЧК.
В то время как ни архивы, ни сведения современников это не подтверждают. Тем не менее, много в книге и правдивых моментов.
«Семиречье даже в годы войны был край сытый, хлебный…», — резюмировал Фурманов свои впечатления о местности.
К слову, в нашем недавнем материале мы писали о роли Фурманова в судьбе урочища Медеу.
Вторыми, кто литературно описал Алматы, были советские сатирики Илья Ильф и Евгений Петров. Известно, что создатели Остапа Бендера посещали Алма-Ату в далеком 1929 году на правах корреспондентов профильной железнодорожной газеты «Гудок». А свои впечатления от строительства Турксиба они перенесли в «Золотой теленок». Что же писали Ильф и Петров о нашем городе? Каким он им запомнился?
«Алма-Ата еще сохранила свой старорежимный вид полковничьего городка. Вся она обставлена одноэтажными, одноквартирными домиками ставнями наружу, с резными карнизами и тенистыми помещичьими крылечками», — описывают Ильф и Петров.
Однако уже тогда, на рубеже 1920-1930-х, когда город напоминал еще большую станицу-деревню, тандем великих сатириков предрек в своих путевых заметках ему большое будущее:
«Но не остаться Алма-Ате полковничьим городком даже с виду. Турксиб преобразит столицу Казахстана. Уже свозятся по городской ветке строительные материалы. Городу тесно. Столько предстоит дела, что неизвестно даже, за что раньше взяться. Строить ли раньше усовершенствованные мостовые, или прокладывать прежде канализацию и водопровод, либо взяться за устройство большого курорта в Медео, альпийской местности…».
Впрочем, гостевой взгляд, даже самых талантливых авторов, все равно в огромной степени поверхностен. Все-таки в полной мере прочувствовать дух и энергию нашего города могли писатели, прожившие здесь немало времени. Первый из таких, кто приходит на ум — конечно, Юрий Осипович Домбровский. По мнению известного поэта, писателя и литературоведа Дмитрия Быкова, Домбровский «нанес Алма-Ату на литературную карту мира».
Дилогия Юрия Домбровского «Хранитель древностей» и «Факультет ненужных вещей» по сей день является одним из ярчайших литературных трудов о нашем городе.
В романе «Хранитель древностей» Юрий Домбровский подробно описывал свое первое знакомство с «этим необычайным городом, столь непохожим ни на один из городов в мире»:
«Уезжал я из Москвы в ростепель, хмурую теплую погодку […], а здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено — развалившиеся заплоты (трава била прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары […]. Повернул я за угол — и вдруг выбежала навстречу целая семья высоких, тонких, гибко изогнутых деревьев. «Восточные танцовщицы» — подумал я…»
К слову, из этого же романа пошла в народ легенда, которая отчасти и по сей день жива. Один из персонажей (а именно дворник) в беседе с главным героем, приехавшем в Алма-Ату, случайно бросает фразу «В этом городе все построил Зенков». Эта фраза стала определяющей отношение обывателя к дореволюционной истории нашего города.
Ну, а «Факультет…» — по сей день настоящий литературный памятник Алма-Ате 1930-х. Главный герой произведения — археолог Георгий Зыбин. И немалая часть действа разворачивается в стенах Центрального Государственного музея Казахстана. А тогда он, напомним, находился в здании Вознесенского собора. Его описание — особый смак:
«Я повернул за угол и тут увидел знаменитый собор. Мне о нем пришлось много слышать и раньше, но увидел я что-то совершенно неожиданное. Он висел над всем городом. Высочайший, многоглавый, узорчатый, разноцветный, с хитрыми карнизами, с гофрированным железом крыш. С колокольней, лестницей — с целой системой лестниц, переходов и галерей. Настоящий храм Василия Блаженного…», — описывает собор Юрий Домбровский.
Собственно, многие литературоведы считают, что публикация этого романа на Западе в 1978 году стоила Домбровскому жизни. После публикации он подвергся сильному избиению в фойе московского Дома литераторов. Собственно, от последствий этого избиения Юрий Осипович и скончался. Стоит отметить, что наш город своеобразно воздал ему дань памяти — именно в Алма-Ате, в издательстве «Жалын» этот роман впервые будет опубликован в СССР.
Среди писавших об Алматы стоит упомянуть современника Домбровского — Алексея Скалдина. Этого человека называют одним из последних мастеров литературного Серебряного века. Обширное литературное наследие Скалдина, за малыми исключениями, утрачено. Погибли восемь романов, над которыми Скалдин работал в ссылке, три повести, дневники, конспекты лекций, статьи по изобразительному искусству, переписка со многими деятелями искусства. Сохранились лишь несколько его рассказов. Исследователи считают, что его романы и повести — в том числе и алматинские — могут хранится в архивах КНБ. Однако этим вопросом пока никто всерьез не занимался.
Младшим современником Домбровского можно считать и другого писателя. Хотя свою литературную карьеру он начал значительно позже. Попал он в наш город из-за войны, отправившись в эвакуацию. А свои впечатления об алма-атинской эвакуации он изложит в своих знаменитых повестях и романах: «Сволочи» и «Мика и Альфред». Речь идет, конечно, об известном писателе и сценаристе Владимире Кунине. Когда-то повесть Кунина «Сволочи» произвела скандальный фурор: до сих пор многим памятен эпизод на кинопремии MTV в 2007 году, когда режиссер Владимир Меньшов отказался вручать приз экранизации этого романа. Напомним что действие повести «Сволочи» происходит в закрытой спецшколе, где из малолетних преступников готовят диверсантов в тылу врага. Школа диверсантов действительно существовала в урочище Горельник, однако данные о малолетних преступниках были автором выдуманы, но поданы как реальность. На почве чего и возник скандал.
Экранизация романа «Мика и Альфред» о мальчике, вдруг открывшем в себе дар убивать взглядом, вышла под названием «Правосудие волков» и получилась куда более скромной. А между тем, описания Алма-Аты времен эвакуации в буквальном смысле на вес золота. Вот как Кунин описывает эвакуационный быт в гостинице «Иссык» — здание и по сей день стоит на пересечении улиц Богенбай батыра и Чайковского:
«В отличие от тысяч эвакуированных семей, вынужденных влачить жалкое существование в саманно-глинобитных сарайчиках при хозяйских домах, выстаивать многочасовые очереди в баню, справлять естественные нужды над слегка огороженными выгребными ямами с летними жуткими сине-лиловыми гигантскими мухами и зимними морозными сталактитами из обледенелых желто-коричневых человеческих испражнений, обитатели гостиницы «Дом Советов» жили просто в райских условиях.
Это несмотря на то что и в «Доме Советов» уборные были общими и находились в конце каждого коридора. Собственными туалетами обладали только два «люкса», занятые Польской военной миссией, и четыре «полулюкса», где были расселены народные артисты СССР, обделенные квартирами в переполненном «Лауреатнике».
«Роскошные» условия эвакуированного бытия в гостинице «Дом Советов» многим показались сродни бытию «командировочному», в период которого в людях неожиданно открываются не подозреваемые доселе развязность, желание говорить громко, свобода общения, любовная лихость и жалкие попытки хоть ненадолго, на краткий миг своей перевернутой жизни создать некое подобие пира во время чумы. Изредка прерываемого бодро-трагическими сводками Советского информбюро со всех фронтов этой страшной войны…
От состояния ложной «командировочности» «Дом Советов» вспухал любовями, взрывался неожиданными разводами, еще более невероятными связями, клятвами, захлестывался коварством измен, тайфунами ревности и истерическим весельем с обязательными слезами и имитациями попыток самоубийств…».
К слову, довольно скоро мы увидим новое произведение, рассказывающее о временах эвакуационной Алма-Аты. Ведь в ближайшие недели анонсирует выход своего нового романа писательница Гузель Яхина. Создательница бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Эшелон на Самарканд» написала большую художественную биографию легендарного советского режиссера Сергея Эйзенштейна. И большая часть будет посвящена съемкам «Ивана Грозного» на ЦОКСе. Пожалуй, впервые за долгое время это будет роман писателя весьма большого масштаба. И это приобретение для казахстанской литературы можно считать удачным. Ведь теперь Гузель Яхина живет в Алматы. И точно можно сказать — одним талантливым литератором в нашем городе стало больше. Так что, может случиться, что спустя много лет по произведениям Яхиной будут судить об Алматы и Казахстане 20-х годов XXI века.
Фото из открытых источников