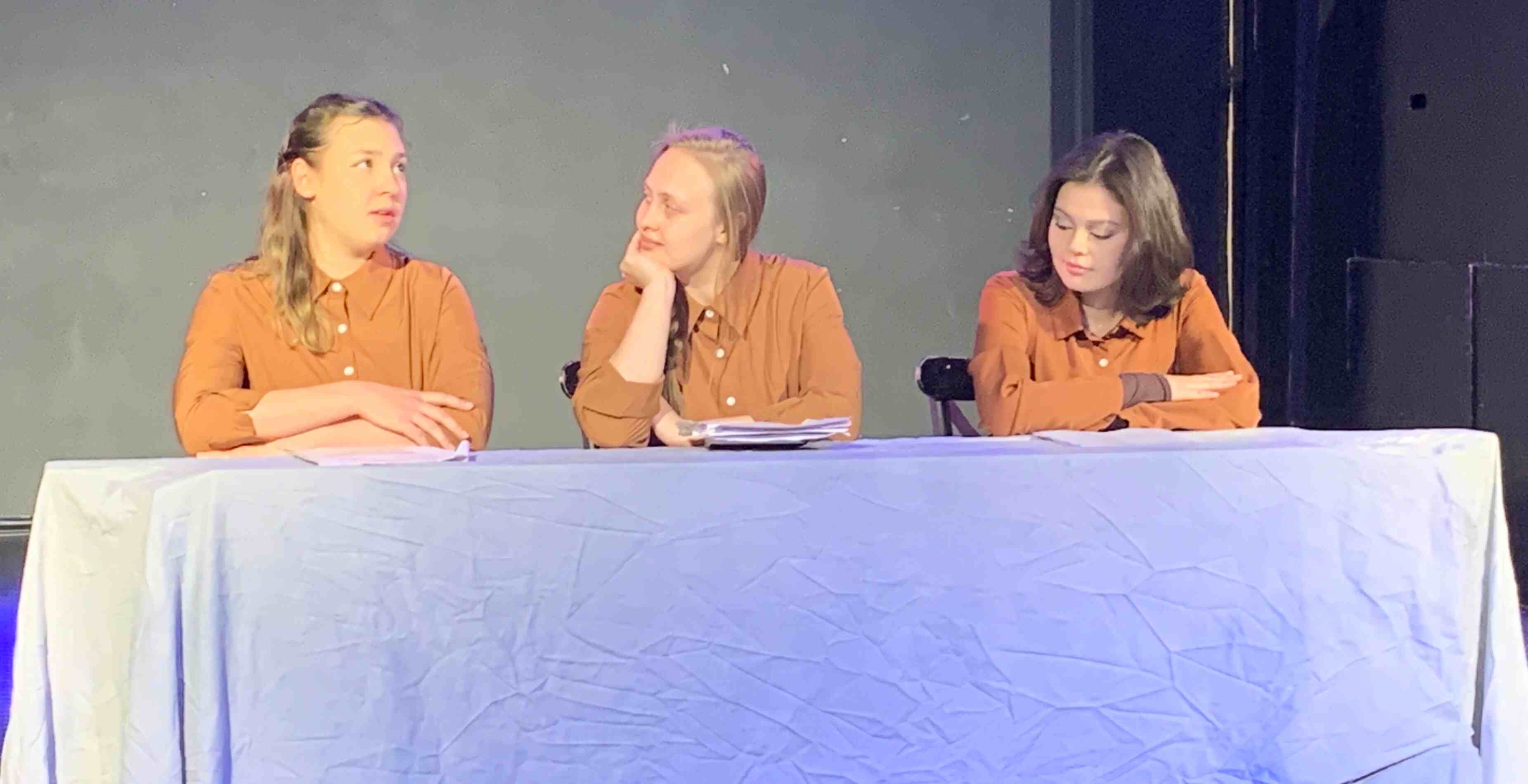В субботу утром теперь уже бывший председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали был назначен заместителем генерального прокурора. Это выглядит как обычная рокировка, в том числе связанная с вливанием Антикора в КНБ, но на самом деле эта новость имеет куда более глубокий смысл. Какой именно? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к, казалось бы, вечной проблеме Казахстана — борьбе с коррупцией — и поговорить о том, как она стала решаться в последнее время.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Возврат активов: Казахстан делает следующий шаг
Ожидаемая сенсация: как подбирались к Кожамжарову
В интересах нации: еще раз о слиянии КНБ и Антикора
Из Антикора в Генпрокуратуру
Вообще, в Астане, где каждое громкое назначение читается между строк, 18 октября произошла деталь, на первый взгляд чисто кадровая: Асхат Жумагали стал заместителем генерального прокурора. Формально — это обычное перемещение по службе, хотя может выглядеть как понижение. Но тут надо учитывать, что назначенец является по-настоящему ценным кадром, не только профессионалом своего дела, но и исполнительным (пусть и непубличным) чиновником в погонах. Который, кстати, не был замечен в каких-либо скандалах, связанных с властными элитами.
В действительности это сигнал. Сигнал о том, что государство переводит антикоррупционную борьбу на новый уровень, но при существующей нормативно-правовой базе. Хотя вполне возможно, что в ближайшее время следует ожидать изменений (ужесточения) в коррупционном законодательстве. Но это чисто технический момент, а что касается прихода (а точнее, возвращения) Жумагали в Генпрокуратуру, то это говорит об усилении работы главного надзорного ведомства в антикоррупционном направлении. Если коротко, то это тот самый случай, когда кадры многое решают.
Но мы сейчас не о конкретных кадрах, а о систематическом подходе государства к проблеме. Не секрет, что коррупция в Казахстане долго время воспринималась как хроническая болезнь — неприятная, но уже какая-то своя, с которой приходится свыкнуться. Взятки, откаты, доли за тендеры стали привычными терминами, обросшими мемами и циничным фольклором. Но надо понимать, что коррупция имеет гораздо более широкие корни. Если говорить языком юриспруденции, то это и злоупотребление служебным положением, и ряд должностных преступлений, и многое другое.
Это, безусловно, понимала и понимает высшая власть, прекрасно осознавая, что различных концепций, превентивных мероприятий, профилактики и даже громких дел недостаточно, чтобы свести коррупцию к минимуму. По большому счету, это все механизмы — безусловно, нужные, но чисто технические мероприятия. Они, в принципе, были всегда — даже когда борьба с коррупцией ассоциировалась с лозунгом «пчелы против меда» (или «казахи против қазы»). Главное, на наш взгляд, отличие действий властей в данном направлении, это фактическое признание, что коррупция угрожает национальной безопасности страны. Понимание того, что это не просто злоупотребления, а угроза, способная разъедать само государство изнутри.
КНБ vs коррупция
Именно в этом заключается главный посыл появления Антикоррупционной службы в составе КНБ РК. Впрочем, еще в прошлом году президент Ксым-Жомарт Токаев на одном из совещаний прямо сказал: «Коррупция подрывает доверие граждан, тормозит развитие и в конечном счете угрожает национальной безопасности. Мы должны бороться с ней системно и жестко». Этим летом главой государства было принято решение интегрировать часть функций Антикора в Комитет национальной безопасности (профилактикой, как таковой, будет теперь заниматься Агентство по делам госслужбы). Кто бы что бы ни говорил, но следует признать, что это не косметическая реформа, а перестройка архитектуры всей системы. Теперь расследования, где фигурируют крупные хищения, трансграничные переводы денег или сложные схемы отмывания переходят под контроль структуры, обладающей оперативными возможностями и разведывательным инструментарием.
Тут нелишне будет еще раз подчеркнуть, что назначение Асхата Жумагали в Генпрокуратуру завершило своего рода «переупаковку» антикоррупционного контура. Бывший руководитель Антикора, знающий механизм изнутри, теперь будет надзирать за законностью расследований, а не только их инициировать. По большому счету, эта связка прокуратуры и КНБ выглядит логичной: одна сторона усиливает контроль и процессуальную чистоту, другая — обеспечивает скорость и глубину работы.
Другими словами, если вспомнить о механизмах, то сейчас они получают хорошую «смазку» для дальнейшей продуктивной и даже эффективной работы. Как нам видится, прокуратура теперь получает возможность централизованно координировать дела, которые раньше могли «гулять» между ведомствами. КНБ будет ресурсом для расследований, где замешаны офшоры, фиктивные фонды и зарубежные активы. В общем, в Казахстане сейчас формируется, скажем так, единый антикоррупционный трек, где силовой блок и надзор впервые действуют не как конкуренты, а как партнеры.
Чтобы понять масштаб перемен, достаточно вспомнить недавние дела. Кайрат Кожамжаров, бывший глава Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (а потом — генеральный прокурор), сам оказался фигурантом расследования. По версии следствия, речь шла о злоупотреблениях и легализации средств. История символическая: система, созданная когда-то для борьбы с коррупцией, теперь проверяет собственные старые связи. Его «правая рука», бывший начальник Алматинской финполиции Максат Дуйсенов сейчас, как утверждают СМИ, «готовится к экстрадиции».
Другие примеры менее громкие, но столь же показательные. В регионах возбуждаются дела по хищению бюджетных средств через неправительственные фонды, где благотворительность использовалась как прикрытие для откатов. В одном из таких эпизодов расследование шло по статье о присвоении и отмывании, и ведется оно уже КНБ и прокуратурой в связке. В каждом подобном кейсе просматривается новая логика, которая, может быть, не заметна обычному гражданину. Если коротко, то это борьба не с симптомами или отдельными эпизодами, подпадающими по те или иные статьи УК РК, а с цепочками — от мелких исполнителей до тех, кто выводил деньги в тень.
Торопиться не надо
Кто-то может отмахнуться, сказав, что пока не наденут наручники на главных фигурантов и приближенных к «Старому Казахстану», все происходящее можно назвать имитацией бурной деятельности. Отчасти можно согласиться с такой постановкой, но, по большому счету, дело даже не в громких арестах, а в системе, которая к такому приведет — и тогда такие новости не будут удивлять.
На данном этапе важно понять, что Антикоррупционная политика не должна сводиться к охоте за нарушителями. Государство постепенно переходит к профилактической модели: цифровые госуслуги, электронные закупки, публичные реестры, комплаенс-офицеры в компаниях с госучастием. Параллельно разрабатываются механизмы возврата украденных активов, в том числе с помощью международных соглашений и опыта ОЭСР.
Но, пожалуй, самое важное — это изменение восприятия. Если раньше коррупция воспринималась как «судьба» или «часть системы», то теперь в обществе формируется другой запрос: не на показательные посадки, а на справедливость и правила, одинаковые для всех. И в этом смысле, еще раз повторимся, борьба с коррупцией действительно превращается в вопрос национальной безопасности, потому что от доверия граждан зависит устойчивость государства.
Итак, резюмируя все вышесказанное, скажем, что переход Антикора под крыло КНБ, усиление прокуратуры, новые стандарты декларирования и возврата активов — все это элементы одной истории. Истории, в которой Казахстан пытается закрыть эпоху двойных стандартов и показать, что закон работает для всех. Нам бы тоже хотелось, чтобы все коррупционеры оказались там, откуда по УДО не выпускают, но мы же не хотим превратиться в репрессивную машину, чтобы сбежавшие за кордон «расхитители» вдруг стали «политическими беженцами»? В этом случае не стоит гнаться за показателями, тем боле, что описанный нами путь не приемлет суеты и необдуманных решений без 120-процентных доказательств.
В общем, как и в хорошем детективе, главное не эффектный арест, а раскрытие всей схемы до конца. И если государство действительно доведет расследования (по тому же Кожамжарову) и реформу до финала, у общества появится шанс поверить, что борьба с коррупцией больше не кампания, а новая норма политической жизни. Именно — политической.
Фото из открытых источников