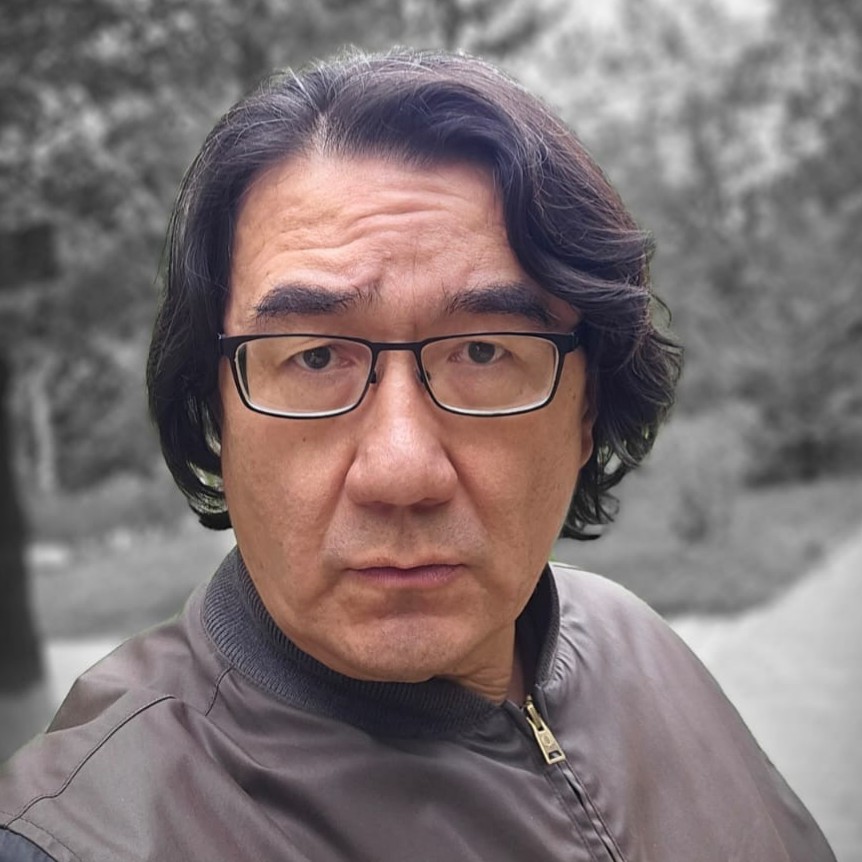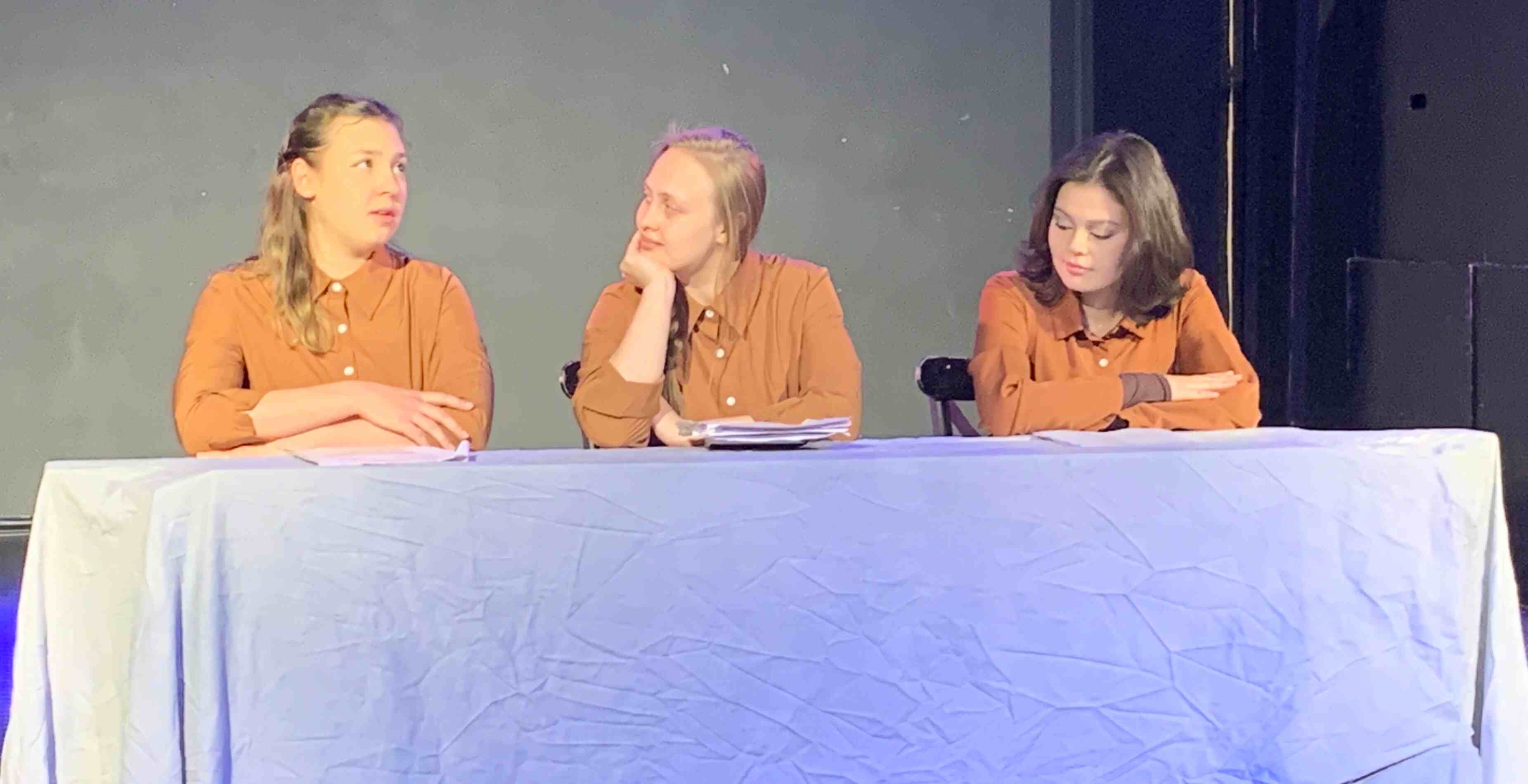Военная служба является не только механизмом обороны, но и институтом политической социализации, гражданской интеграции и формирования элиты. В случае казахского общества отказ от участия в военной службе вплоть до 1916 года привел к стратегическим последствиям, выражавшимся в неспособности к самообороне, отсутствию военного знания, кадров и организованного сопротивления в условиях кризиса. Особенно ясно это проявилось в ходе восстания 1916 года и Гражданской войны.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Ядерный блеф: почему на самом деле сдалась Япония
Они брали Париж. Казахи, победившие Наполеона
История в строю: армия как фундамент казахской государственности
Для полноты картины необходимо рассмотреть контраст с другими народами Российской империи — башкирами, калмыками, татарами и кавказскими горцами- которые, напротив, активно участвовали в военной системе и благодаря этому сформировали устойчивые механизмы политической и вооружённой самоорганизации.
Казахи вне рамок мобилизационной системы
До 1916 года казахи, будучи частью «инородческого» населения, были официально освобождены от воинской повинности. Эта мера, имевшая в XIX веке определенную привлекательность, со временем привела к полной маргинализации степного населения в вопросах военного дела.
Молодежь не проходила строевой и огневой подготовки, не включалась в офицерские училища, не имела доступа к штабной культуре. Более того, даже в военной терминологии и языке управления возникали пробелы: на казахском языке отсутствовали многие военные термины, а дисциплина и субординация воспринимались как чуждые.
Пример башкир: от конных полков к вооруженной автономии
Башкиры еще в XVIII веке были включены в военную систему Российской империи как часть Иррегулярной кавалерии. Их конные полки участвовали в Семилетней войне, Отечественной войне 1812 года, Кавказских кампаниях. Они сохраняли национальные формы одежды, командование и автономную структуру, совмещая имперскую службу с этнической самоидентификацией.
К 1917 году башкирская военная элита была достаточно многочисленна и компетентна, чтобы сформировать собственную Башкирскую армию — один из немногих примеров этнической армии в годы Гражданской войны, которая не была поглощена большевиками, а вела самостоятельную игру до 1919 года.
Калмыки: элитная кавалерия южной степи
Калмыки, как и башкиры, были включены в систему иррегулярных войск. Вплоть до конца XIX века калмыцкие кавалерийские части считались надежными поставщиками мобильных соединений на южных рубежах империи. Их служба включала участие в заградительных операциях против кочевых набегов, в походах против Наполеона и в Кавказской войне.
Калмыцкие вожди часто получали офицерские чины и пользовались авторитетом в приграничных военных округах. В годы Гражданской войны именно наличие такого кадрового запаса позволило калмыкам сформировать отряды на стороне Белого движения, а позже — активно участвовать в Красной армии.
Татары: служба через знание и адаптацию
В отличие от степняков, татары (особенно поволжские и крымские) имели доступ к российской системе образования, включая военные гимназии и училища. Уже в конце XIX века они поставляли офицеров в регулярные части Российской армии. Известны фамилии мусульманских подполковников, ротмистров, штабс-капитанов татарского происхождения.
К 1917 году татарское общество обладало высоким уровнем политической и военной подготовки. Это позволило им участвовать в формировании Мусульманского военного совета, Татарской стрелковой дивизии и других формирований, что, в свою очередь, усилило политическую субъектность татарских организаций.
Кавказские горцы: от оппозиции к службе
После Кавказской войны 1817–1864 годов значительная часть горских народов — особенно чеченцы, ингуши, осетины и кабардинцы — была интегрирована в имперскую армию. Это происходило через создание горских конных полков, участие в Терском и Кубанском казачестве, а также подготовку офицеров из среды национальной знати.
Горские народы, несмотря на отсутствие призыва в царскую армию до Первой Мировой войны, продемонстрировали впечатляющую боевую организованность. Их участие в так называемой Дикой дивизии, формировавшейся из добровольцев Кавказа, показало, что даже в отсутствии формального образования может существовать устойчивая элита, основанная на родовой и военной инициации, на традициях служения и боевого братства.
Казахи: уязвимая масса в условиях кризиса
На фоне вышеуказанных народов казахское общество оказалось в крайне уязвимом положении. Восстание 1916 года носило спонтанный характер. Оно не имело единого командования, логистики и боевой подготовки. Поражение восстания, а затем массовая депопуляция в результате репрессий, голода и бегства стали прямым следствием отсутствия организованных вооруженных структур.
В 1918–1920 годах казахи массово мобилизовались в чужие армии — красные, белые, атаманские, анархистские — но лишь как рядовой элемент, лишенный влияния. Казахская интеллигенция пыталась создать национальную милицию при «Алаш-Орде», но без кадровой базы и школ командования эти попытки были обречены на провал.
Опыт участия башкир, калмыков, татар и горских народов в военной системе Российской империи свидетельствует о том, что интеграция в армию, пусть и в подчиненной форме, создает прочный фундамент для политической субъектности, элитарного воспроизводства и вооруженной самоорганизации.
Казахский отказ от военной службы, как культурный и институциональный выбор, обеспечил долгосрочную автономию, но стал причиной стратегической беспомощности. История ХХ века ясно показывает: отсутствие военного знания, командного корпуса и вооруженной структуры делает нацию объектом чужой воли в моменты политического кризиса.
Фото из открытых источников