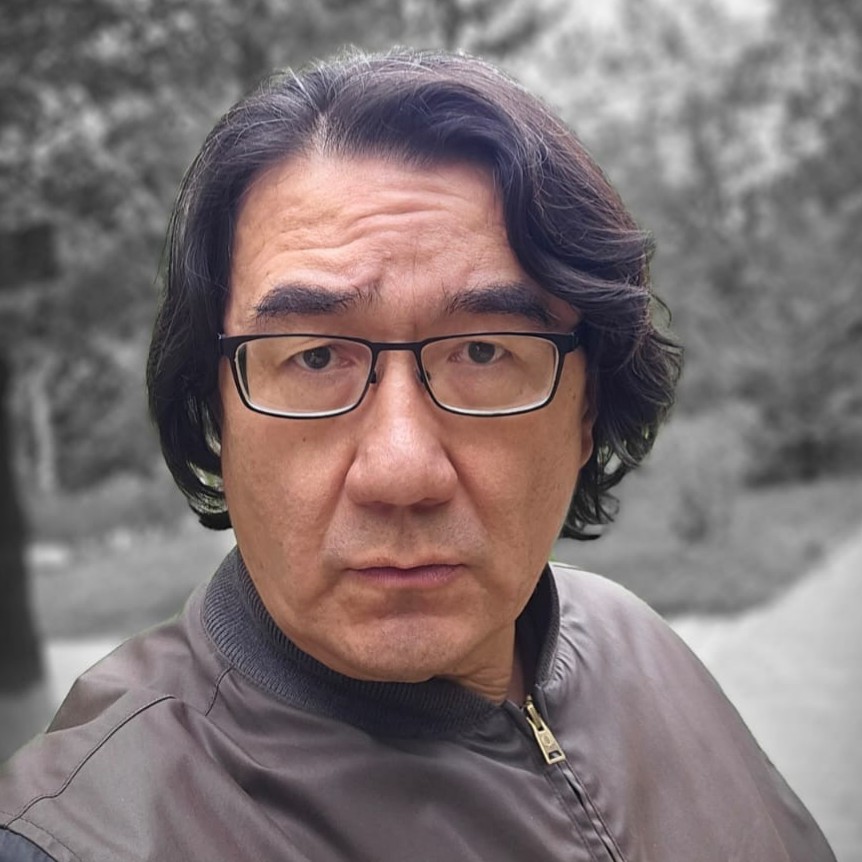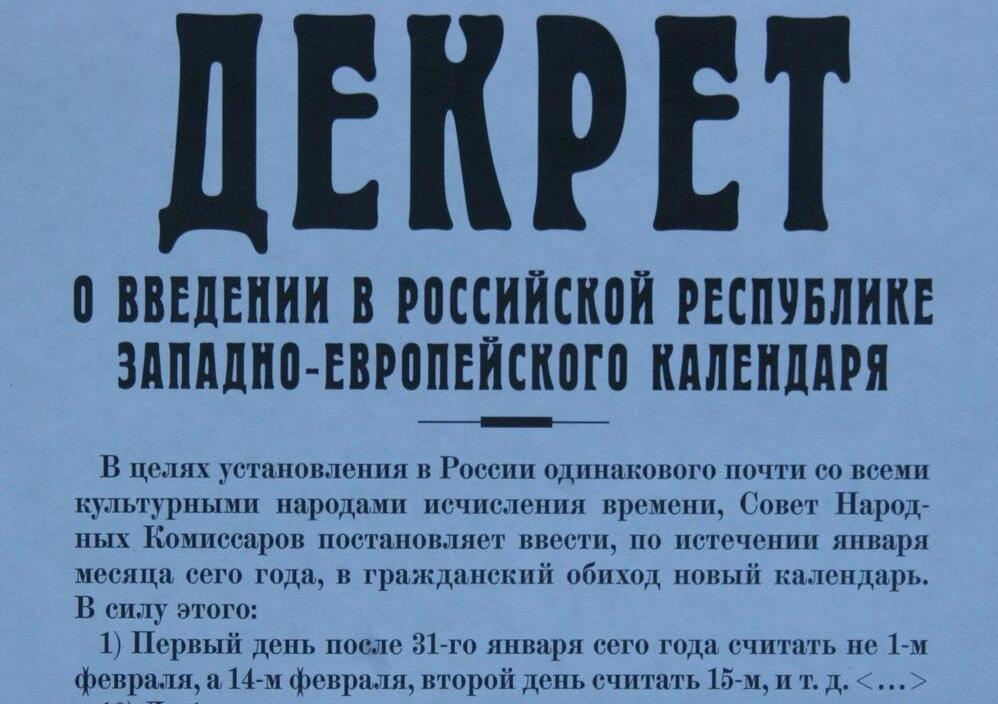В Казахстане развернулась редкая по своему символическому значению дискуссия: может ли частная компания называть себя «народной». Поводом послужила инициатива группы депутатов мажилиса, предложивших закрепить на законодательном уровне запрет на использование слов «народный» и «халық» в названиях частных банков и коммерческих структур. За этой, казалось бы, узкой юридической темой скрывается более глубокий вопрос — кому принадлежит право говорить от имени народа и где проходит граница между общественным и частным в современном государстве.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Суверенитет как возвращение. Этап эволюции Казахстана
Государство как биологическая необходимость: казахстанская версия
Субъектность как условие равного диалога: казахский взгляд
Депутат Марат Башимов, автор поправки в закон «О банках», объяснил свою позицию просто и строго: слово «народный» не может служить вывеской для коммерческой организации, извлекающей прибыль. В Конституции оно связано с источником власти — народом Казахстана, а значит, несет особую политико-правовую нагрузку. Когда частный банк использует это слово в названии, создается ложное ощущение общественной миссии, что способно подорвать доверие к финансовой системе. Этот аргумент затрагивает не экономику, а основу символического капитала государства. Ведь язык тоже форма власти, а контроль над словами, связанными с государственностью, является частью охраны суверенитета.
В европейских и англо-саксонских странах такие термины называются sensitive words — чувствительные слова. Их употребление регулируется законом и допускается только с разрешения уполномоченного органа. Так, в Великобритании нельзя без одобрения правительства включить в название компании слова national, royal, authority, в США банки не вправе использовать термин national, если они не являются федеральными учреждениями. Это не бюрократическая прихоть, а защита смысловой чистоты публичного языка, предотвращающая путаницу между частной и государственной сферой. Казахстан, стремящийся к зрелой правовой культуре, закономерно обращается к подобной практике.
Но в казахстанском контексте речь идет не просто о защите потребителя от возможного недоразумения. Здесь проявляется стремление государства вернуть себе монополию на символы, которые воплощают саму идею общности. В этом смысле слова «народный» и «халық» становятся не маркетинговыми, а сакральными категориями. Их использование требует не только юридического разрешения, но и морального основания. Ведь «народный» — это не про продукт или услугу, а про доверие, которое может быть дано лишь тем, кто служит обществу, а не рынку.
Критики инициативы опасаются, что подобный запрет ударит по частной собственности и инвестиционному климату: бренды, сложившиеся десятилетиями, могут быть вынуждены переименоваться. Но это возражение уместно лишь в экономической плоскости. В более широком смысле речь идет о восстановлении границ, где язык публичной власти не должен подменяться языком рекламы. Государство вправе охранять не только границы территории, но и границы смыслов, особенно тех, что связаны с его легитимностью. «Народный»- это категория конституционного уровня, и ее использование должно быть исключительным правом государства и его аффилированных институтов.
Сегодня, когда общественное пространство перенасыщено коммерческими лозунгами, возврат государству символического контроля над словом- это акт правовой зрелости. Это попытка напомнить, что не все может быть брендом, что есть понятия, чья ценность выше рыночной. «Народный» — одно из таких слов. Оно принадлежит не банку, а стране.
Фото из открытых источников