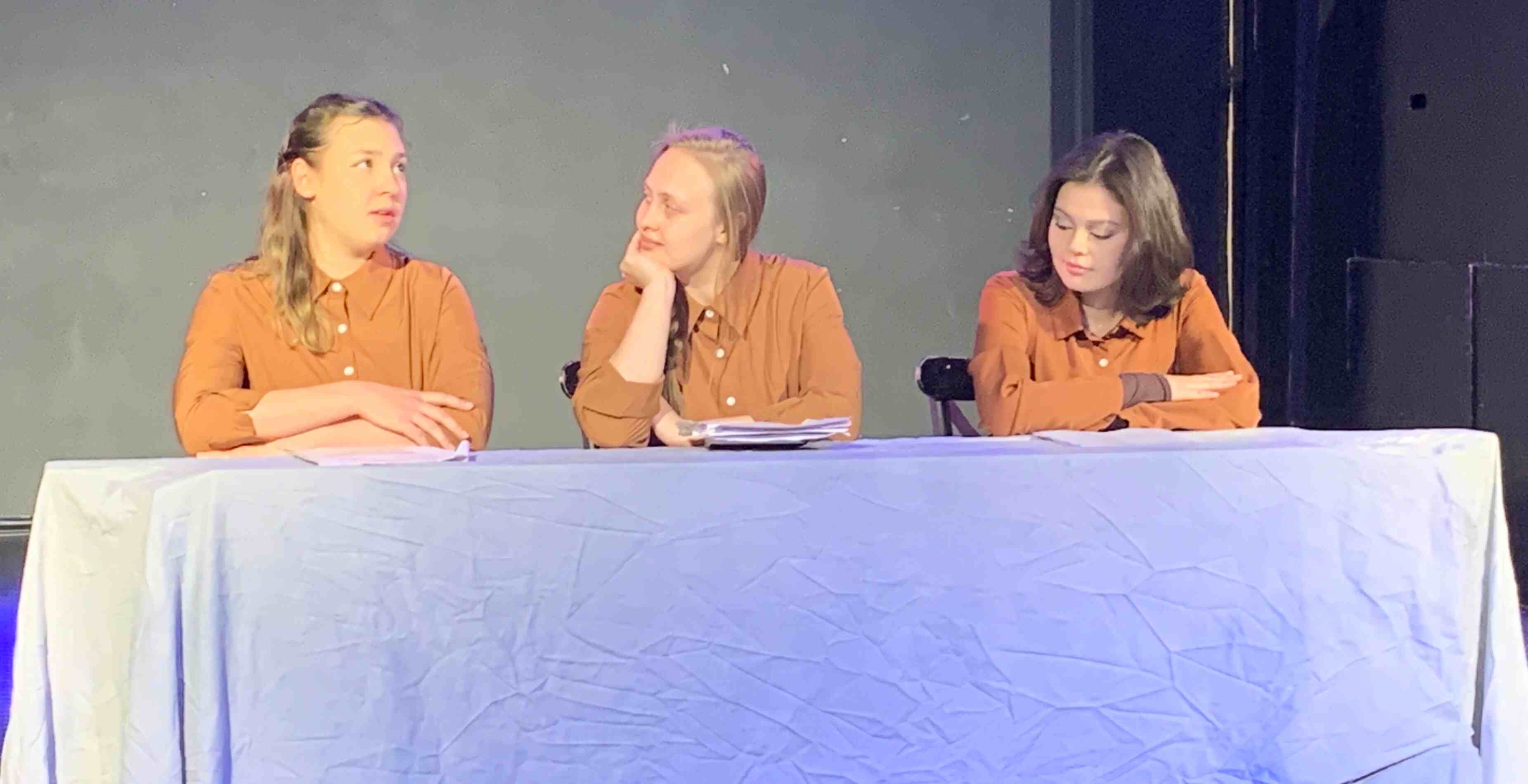Наука — это не «чья-то романтика» и не закрытая сцена для академиков. Независимо от того, идет ли речь о точных науках, гуманитарных или тех, что прямо влияют на экономику страны и наш быт. На последнее и обратим сегодня наше внимание. Ведь это то, из-за чего в наших квартирах горит свет, сколько мы платим за электроэнергию, какие лекарства доступны и как быстро работает врач или госуслуга. Каждый выделенный на науку тенге — это вклад налогоплательщика. Но не только это заставляет каждого казахстанца обратить внимание на сферу науки. Есть и другие аспекты, о которых мы сегодня с вами и поговорим. Причем, мы не только поднимем некоторые проблемы в отрасли, но и подскажем пути их решения.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Оцифрованный Казахстан. Государство как онлайн-платформа
Спираль истории. Караван как символ современности
«Пирамиды Боглаева» и Казахстан
Наука и ВВП
Мы специально подчеркнули важность интереса казахстанцев к развитию науки, несмотря на то что они могут быть прямо (или даже косвенно) связаны с этим процессом. Если коротко, то это касается каждого из нас, а также наших детей и всех потомков. Это, как говорится, аксиома. Если коротко, то у общества есть право требовать отдачу, а у власти — ответственность за результат. Исходя из этого постулата и разберем заданную тему. О ней, как и о развитии науки и технологий, в прошлую пятницу говорил президент Токаев, но повторяться особо не станем, а лишь акцентируем внимание на более глубокие вещи, которые могут вызвать сомнения в обществе.
Для начала следует констатировать, что за последние годы в стране действительно началась активизация в этом направлении: появились новые программы, выделение грантов на исследования стали более четкими и точечными, а заявления о приоритете науки в государственных планах приобрели более конкретный характер. Но, признаться, пока это не тот уровень инвестиций, который меняет ситуацию — валовый объем общественных расходов на R&D остается сравнительно низким, порядка 0.14–0.16% ВВП по последним международным оценкам, и Казахстан пока далек от мировых лидеров по этой метрике.
Цель, о которой периодически говорят, это выйти минимум на 1% ВВП; это реальная, но амбициозная дорожная точка. Эти цифры и показатели могут показаться скучными, но именно то, какая часть из бюджета и того же ВВП уходит на научные исследования, говорит, насколько государство заботится о будущем. Поэтому еще раз отметим этот важный момент: пара связанных показателей — количество исследователей на душу населения растет, но все еще уступает развитым экономикам, и это ограничивает скорость внедрения и коммерциализации. Одновременно страна испытывает отток людей с высоким потенциалом: в последнее десятилетие цифры миграции и «утечки мозгов» вызывают серьезную обеспокоенность аналитиков. Об этом тоже не стоит забывать, тем более, глава государства также поднимал эту проблему с различных трибун, хотя, положа руку на сердце, мы пока не видели реальных программ, которые смогли бы в корне изменить такую ситуацию.
Понятно, что отток мозгов и недостаточное финансирование — это не все проблемы. Есть и другие — объективные и субъективные. Но давайте разовьем мысль о том, с какими рисками и «подводными камнями» мы (именно «мы», а не только уполномоченные органы и сами ученые) можем столкнуться. Причем, наш краткий анализ показывает, что некоторые из таких «камней» уже были в нашей практике, но о них мы почему-то продолжаем спотыкаться вновь и вновь.
Проблемы и решения
В первую очередь это касается декларативности и формализма отношения к делу. Наверное, это покажется банальным, но опасность заключается в том, что довольно хорошие и перспективные стратегии есть, а вот надлежащего исполнения — нет. Проекты рождаются на бумаге и умирают в бесконечных согласованиях, не говоря уже о том, что чиновники больше обеспокоены кабинетной работой, не особо заботясь, что должно получиться в итоге.
Может быть, мы не очень разбираемся в механизмах бюрократии, но нам кажется, что для избавления от такого наследия надо заводить так называемый delivery-unit при Администрации президента и (или) у главы правительства с правом назначать и снимать руководителей проектов. Не справился и не уложился в сроки — до свидания. Кроме того, нужны жесткие промежуточные KPI и публичные отчеты — ведь, опять-таки, контроль общества и СМИ является не только хорошим стимулом для исполнения поручений, но и для собственного развития.
Кстати, до сих пор наблюдается размытая ответственность между ведомствами. Эта проблема остается и в других отраслях. Например, в прошлом году на нее обратил внимание глава государства во время паводков. Если коротко, то основной риск (а точнее — опасность) заключается в том, что каждый тянет на себя, проекты тормозятся на стыках. Или наоборот — перекидывает ответственность на другого. Здесь, на наш взгляд, выход в том, что для крупных государственных задач надо создавать межведомственные дорожные карты с одним «владельцем» (lead-agency) и бюджетным узлом. Нет, это не создаст дополнительную бюрократию (при правильном подходе, конечно), а позволит организовать платформу для реального исполнения поставленных задач и, возможно, перевыполнения плана.
Что касается «утечки мозгов», которая, ко всему прочему, влечет за собой утерю способности внедрять и масштабировать, а также наносит прямой удар по рентабельности вложений в науку, то мы будем банальны. Чтобы противостоять этому, нужны конкурентные зарплаты в R&D, программы «обратного возврата» с грантами и «стартап-верами», долгосрочные лабораторные контракты, обязательства по коммерциализации для грантополучателей. Можно и нужно подключить идеологическую составляющую, но главное — это сделать так, чтобы молодые ученые и инженеры поверили в свое будущее на родине.
Понятное дело, нельзя забывать и о коррупционных и процедурных рисках. Этот момент можно было поставить первым пунктом или и вовсе посвятить ему отдельный материал, но на этот раз мы будем кратки. Постулат заключается в том, что практически все крупные проекты (энергетика, инфраструктура, закупки оборудования) притягивают злоупотребления. Это касается и чиновников, и главных подрядчиков, и разного рода субподрядчиков. Лечить это можно, конечно, силами Антикора (теперь при помощи КНБ), но более важна профилактика. Поэтому нам нужны открытые реестры контрактов и тендеров, обязательный внешний аудит проектов, «стоп-лист» по подрядчикам с сомнительной историей. Тут, опять-таки, все должно быть на виду у общества и журналистов. Что сложного-то?
Если говорить об недоверии общественности (особенно в «атомной» теме и при цифровизации), то надо уяснить, что без понятных публичных разъяснений и прозрачности проекты наткнутся на сопротивление, а любые задержки будут дорого стоить. Будем банальны — надо продолжать и развивать практику обязательных общественных слушаний, превентивно (а не когда потребуют активисты) предоставлять ясные планы по безопасности и утилизации, постоянно демонстрировать открытые расчеты рисков и выгод. У нас, к слову, почему-то только про выгоды говорят, а вот про риски — только те же активисты и независимые эксперты.
Есть определенные риски и «подводные камни» в других направлениях науки, связанной с высокими технологиями и развитием экономики. Про ИИ и цифровизацию, например, мы, наверное, поговорим отдельно (уж очень большая и для многих непонятная тема), а вот про зависимость от поставок и сырья, особенно для развития энергетики и высокотехнологичной инфраструктуры, пару слов скажем. Вот, например, мы закупаем реакторы, катализаторы или «простые» микрочипы за рубежом, но при этом зависим от геополитики и сроков поставки.
Завтра будет поздно
Вроде бы мы тут ни при чем, а «форс-мажоры случаются», но и здесь есть превентивный выход. Необходимо внедрять целевые программы локализации, создавать промышленную кооперацию и стратегические фонды. Именно поэтому, как нам видится, в Казахстане был создан Консорциум по атомной энергетике. Но есть и опыт Южной Кореи как пример агрессивной поддержки индустрии (так называемая система OECD).
Республика Корея, между прочим, является примером (который можно и нужно перенять), когда политико-институциональная воля совмещается с целевыми инвестициями, что в итоге дает мощный эффект в виде высокого процента ВВП, зарубежных вложений и имиджа страны, как примера высоких технологий. Причем, там до сих пор развиваются крупные государственные программы поддержки ключевых отраслей и целевые фонды для стратегических индустрий.
Но давайте немного резюмируем. Нам всем надо понять и признать, что многое было упущено за последние три десятка лет, а нынешнее время не для «ритуальной галочки». Если подход будет формальным, мы потеряем не только вложенные наши с вами деньги (как налогоплательщики), но и возможности — наши дети и внуки будут расти в стране, где технологии не создаются, а покупаются. За еще большие деньги. Если же мы наведем порядок в управлении, финансах и правилах игры, то можем превратить президентские поручения в реальный прорыв. В общем, формализм в науке — это не просто ошибка, а поражение и предательство будущего страны. Платить за него будут не чиновники, а обычные граждане: высокими тарифами, дорогими лекарствами и упущенными возможностями для наших детей. Как бы это высокопарно ни звучало.
Фото из открытых источников