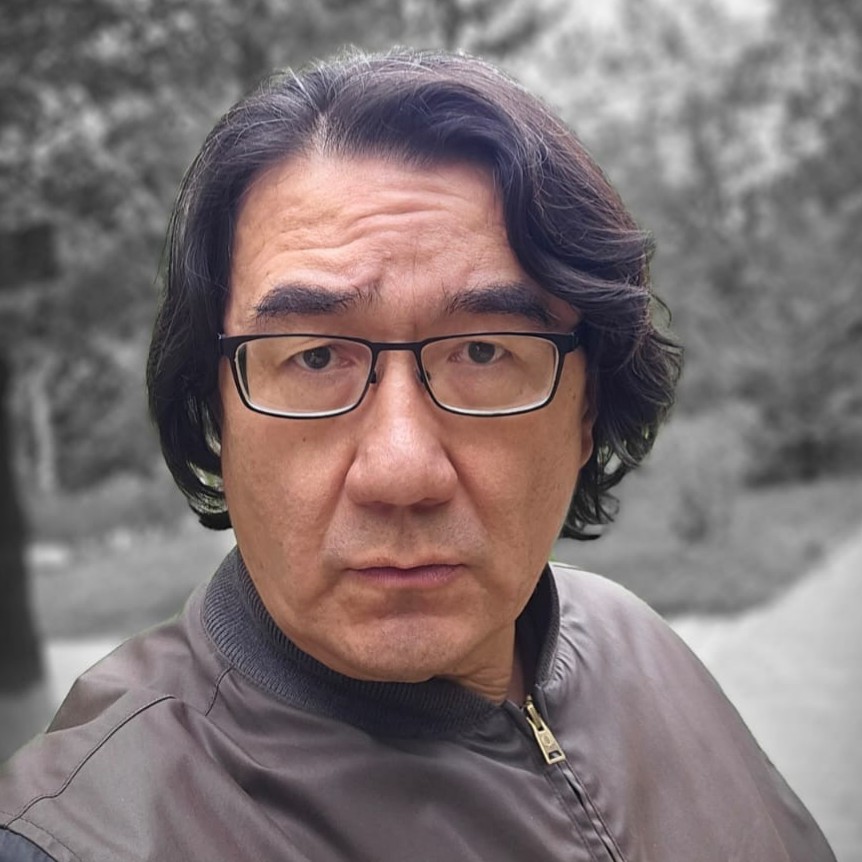Александр Лукашенко представляет собой уникальный тип постсоветского правителя — автократа без опоры. Он не глава клана, не арбитр элит, а центр власти, существующий сам по себе. Его режим — это персоналистская автократия, где бюрократия, экономика и идеология подчинены одной фигуре, а не политическому классу.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
Трамп и Азия: восточная дипломатия на западный манер
Великая модернизация: Китай входит в эпоху зрелого социализма
Заложник географии: Финляндия теряет миллион евро в день
Беларусь исторически формировалась как общество с низким уровнем политической субъектности. Долгое пребывание в составе других государственных образований — Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, СССР — воспитало коллективную установку на выживание под властью, а не вместе с ней. Электорат воспринимает государство как кормильца и защитника, но не как контрактную систему. Лукашенко встроился в этот архетип: он не просто управляет, он исполняет роль отца, распределяющего справедливость и ресурсы.
В отличие от руководителей Центральной Азии, которые балансируют между кланами, Лукашенко методично ликвидировал любую возможность политической автономии. У него нет политической команды — только аппарат, выстроенный на личной лояльности. Министры и губернаторы не представляют интересов групп или регионов: их статус целиком зависит от воли президента. В результате в Беларуси возникла система, где власть не делегируется, а дается на время как должность или привилегия, подлежащая отзыву в любой момент.
Экономическая база этой модели — управляемая планово-олигархическая экономика. В ней сохранены крупные госпредприятия, которые формально принадлежат государству, а фактически контролируются через аппарат президента. Это создает эффект управляемой устойчивости: Лукашенко способен вручную регулировать цены, зарплаты и экспортные потоки, оставаясь конечным арбитром экономической жизни. Такой контроль исключает автономию капитала и тем самым обеспечивает политическую стабильность, но ценой личной перегрузки и отсутствия преемственности.
Сравнение с другими постсоветскими лидерами подчеркивает особенность белорусского случая.
Касым-Жомарт Токаев — классический аппаратный технократ, уравновешивающий влияние региональных и семейных кланов. Его власть ограничена системой сдержек: он опирается на компромисс, а не на культ личности.
Рамзан Кадыров, напротив, лидер кланово-конфессионального типа, связанный сетью взаимных обязательств и зависимостей.
Лукашенко не принадлежит ни к одному из этих типов. Он создал вокруг себя вакуум власти, где нет ни элит, ни коллективной воли.
Парадокс его правления заключается в том, что он одновременно сильнее всех и уязвимее всех. С одной стороны, у него нет противовесов, с другой — нет и механизмов передачи власти. Система персонального управления не способна пережить своего создателя. Поэтому «батькизм» не институциональная форма, а политическая биография, растянутая на три десятилетия.
Лукашенко правит не просто силой, а привычкой общества к иерархии. Белорусский народ, уставший от исторических катаклизмов, предпочел покой свободе, гарантированную стабильность — политическому риску. Этот выбор понятен, но он обрек страну на циклическое воспроизводство подданничества. Вокруг Лукашенко нет равных, потому что не было условий для их появления. Он не диктатор среди кланов, а одиночный институт, удерживающий власть силой собственной воли и исторической инерции народа, привыкшего к покорности.
Но любая система, построенная на одном человеке, заканчивается вместе с ним. И когда белорусское общество осознает, что власть может существовать не как воля личности, а как форма коллективного действия, эпоха Лукашенко станет не вечностью, а лишь одним, пусть и затянувшимся, историческим эпизодом.
Фото из открытых источников