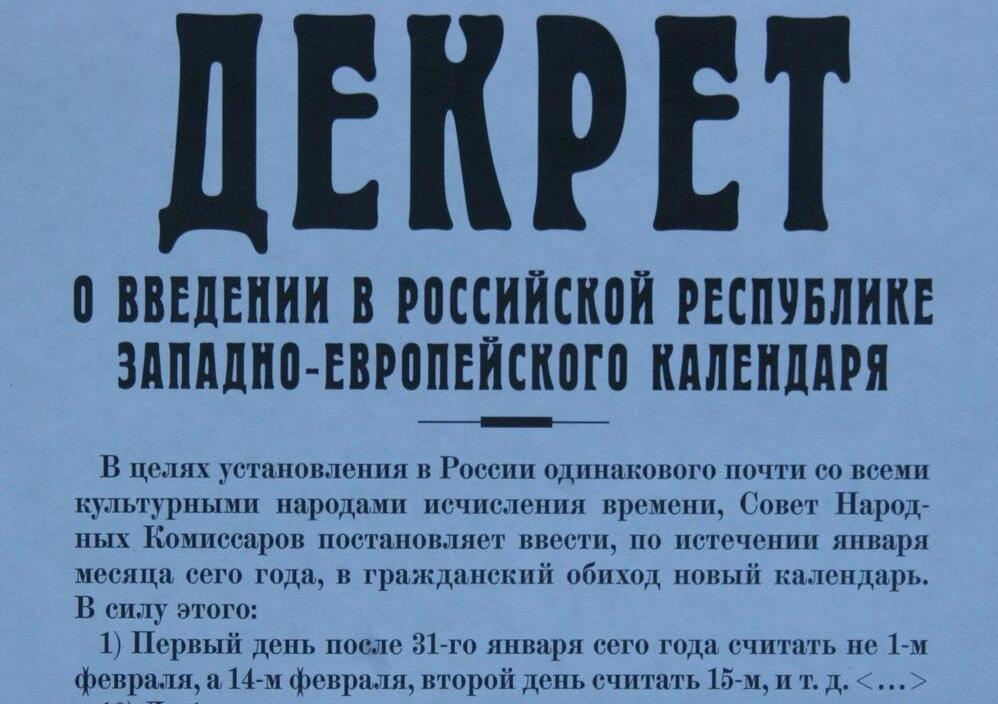Так повелось, что у нас гражданское общество принято противопоставлять власти, а власть — гражданскому обществу. Но это было бы справедливо (да и то, отчасти) лишь в так называемые «прежние времена», а сейчас такое утверждение сильно смахивает на привычку. Привычку, которая с годами переросла в недоверие к власти. Сейчас же государство (власть) делает четкие шаги в сторону диалога с обществом. В том числе шаги в правовом поле, по которым можно судить о намерениях власти.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:
«Пирамиды Боглаева» и Казахстан
Ставка на туризм, или Кто должен решать проблемы отдыхающих
Закон и Порядок. Следующий шаг
Кто есть «общество»
Давайте для начала поймем, что такое «гражданское общество». Мы не откроем большой тайны, если скажем, что практически каждый гражданский активист считает, что он представляет интересы всего общества, хотя даже сам не задумывается над этим. По сути, его электорат определяется подписчиками и лайками. Сколько их? В принципе, неважно. Дело не в количестве, а во влиянии на процессы. Но об этом чуть позже.
Итак, если исходить из общепринятых норм, гражданское общество – это сфера, в которой граждане объединяются в различные организации и группы для защиты своих прав, выражения своих интересов, участия в общественной жизни и так далее. И тут надо отметить два важных принципа. Первое, это то, что понимают и даже пропагандируют практически все — отсутствие прямого контроля государства. А о втором многие подзабывают — это объединение в различные группы и организации для выражения этого самого мнения. Но почему-то у нас принято свое мнение выдавать за общественное, чуть ли ни выступая от имени всего народа. Впрочем, мы сегодня не об этом.
Важно исходить из норм права, а не из того, что кому-то что-то захотелось — неважно, рядовому активисту или какому-то возомнившему о себе, как представителе абсолютной власти, чиновнику. Говоря упрощенным языком юриспруденции, гражданское общество, ко всему прочему, это система негосударственных институтов, где люди могут свободно взаимодействовать, формировать общественное мнение и влиять на политические процессы. Но для этого, как и в любом цивилизованном государстве, работать в правовом поле, то есть — в рамках установленного законодательства.
В этом возникает непонимание разницы, преодолев которое, по идее, можно избавиться от многих проблем в диалоге между властью и обществом или обществом и властью. Дело в том, что отдельные представители общества считают, что «работать в правом поле» означает тотальный контроль со стороны государства. Это, мягко говоря, не так, но надо признать, что и некоторые чиновники искренне считают, будто граждане (как в группе, так и по отдельности) им чем-то обязаны. А ведь даже сам Касым-Жомарт Токаев как глава государства не раз подчеркивал, что президент является наемным менеджером у этого самого общества.
Чего хочет государство?
Но главное здесь брать за основу генеральную линию государства, а не привычку ориентироваться на субъективное мнение отдельных представителей власти. Поэтому еще раз следует обратить внимание на реформы в области развития гражданского общества. Да, можно подумать, что в основном они проходят сверху, но это происходит только из-за того, что законодательная ветвь власти ассоциируется с верховной властью. Не станем вдаваться в исследование разницы между этими двумя понятиями, но дело-то в том, что подавляющее большинство инициатив, связанных с этими реформами, исходят из самого гражданского общества.
Это, между прочим, началось еще в 2019 году, когда президент Токаев создал (опять-таки, по запросу «снизу») Нацсовет общественного доверия. Сейчас его функции были расширены по количеству и качеству в рамках Национального курултая. Назвать его «провластным» даже у радикальной оппозиции язык не поворачивается, так как в рядах делегатов немало тех, кто подвергает конструктивной критике правительственные и местные органы власти. И не только критикует (это мы все умеем), но и выступает с конкретными предложениями по тем или иным вопросам.
Кто-то может сказать, что Курултай — это лишь консультативный орган, но заметим, что его функции четко расписаны в соответствующих нормативно-правовых актах, а главное — многие поднимающиеся там проблемы вскоре решаются на законодательном, административном и том же общественном уровне. Почему многие не обращают внимание на этот факт? В том числе, потому что это вошло в нашу жизнь и стало привычным. Но если сравнивать с прошедшими десятилетиями, то налицо явный прорыв в плане участия граждан в управлении государством.
Да, такая норма изначально была заложена в Основном Законе страны, но она была формальной. Обширная конституционная реформа 2022 года позволила изменить такое положение, но этого было недостаточно с правовой точки зрения. Поэтому были приняты новые законы, а также введены дополнения и изменения в действующие. Только упоминание о каждой поправке, направленной на подъем и развитие гражданского общества, заняло бы половину этого материала, да и о новеллах в законодательстве мы уже говорили не раз. Однако повторимся, что главенствующее место в этом занимает закон РК «Об общественном контроле».
Его нормы предоставили широкие возможности для рядовых граждан, причем, еще в ходе обсуждения законопроекта в него были внесены существенные дополнения. И это, между прочим, было сделано благодаря депутатам и представителям НПО. Мы также ранее отмечали, что казахстанцы не так сильно, как предполагалось, стали пользоваться новыми возможностями, и это как-то даже было хорошо некоторым чиновникам, которые не любят, когда их контролируют снизу. Однако, как выяснилось, уполномоченные органы и власти на местах регулярно и в различных регионах проводят встречи с гражданами, семинары и круглые столы, на которых поднимаются проблемы диалога и того самого развития гражданского общества.
Кстати, можно и нужно еще упомянуть и постоянное совершенствование закона о местном самоуправлении. Тут опять-таки хотелось бы сказать, что гражданские активисты не так интенсивно, как хотелось бы, пользуются новыми возможностями. Это в первую очередь относится к выборам сельских и районных акимов, которые попросту игнорируются теми, кто в соцсетях говорит об электоральных процессах и об ответственности избирателей за будущее страны.
Впрочем, не будем об этом — а то получится, что мы перекладываем ответственность с власти на население. Но ведь, по сути, так оно и есть. В любом случае, это должно быть уроком и для общества, и для власти. Как, скажем, и практика с петициями. Сейчас на соответствующем сайте их стало заметно меньше, чем в первые месяцы, да и требования в них стали озвучиваться более предметные. Знаете, чего там нет? Там нет поддержки со стороны сограждан.
Но мы опять сейчас уйдем не в ту сторону. Да, согласно законодательству, обсуждаться на государственном уровне та или иная петиция может только после того, как достигнет определенного порога и когда будут выполнены формальности, но, как оказалось, многие просьбы и требования изучаются соответствующими органами с самого начала — с того момента, как они появляются на сайте. По некоторым из поставленных вопросов могут приниматься превентивные меры, кое-что на вооружение берут депутаты. В целом же можно сказать, что этот механизм, пусть и не прописанный в законе, тоже работает, а главное — приносит пользу обществу и государству.
Что мы имеем в итоге? На самом деле, несмотря на все вышесказанное, государству предстоит еще многое сделать, чтобы наладить настоящий диалог власти и общества. Более того, можно сказать, что проделана только половина пути, хотя, по большому счету, этот процесс, наверное, постоянный. Но сделано главное — первый шаг. Однако этот процесс невозможен без обоюдного участия и самого гражданского общества, которое, как известно, у нас пестрое, разнообразное и порой друг другу противопоставляемое. Поэтому государство должно быть не только слышащим, но и говорящим. Причем, не только в виде односторонних брифингов и скучных пресс-релизов, а настоящего общения. Так, мощный и показательный прорыв, между прочим, был сделан на прошлой неделе, когда перед журналистами выступило все руководство правительства во главе с премьер-министром.
И это тоже был знак того, что власть (верховная власть) готова на диалог, а значит — на развитие гражданского общества. Мы ее услышали и теперь нам тоже надо «перестроиться», отойти от прежних стереотипов и, если хотите, дать шанс власти оправдать наше доверие.
Фото из открытых источников